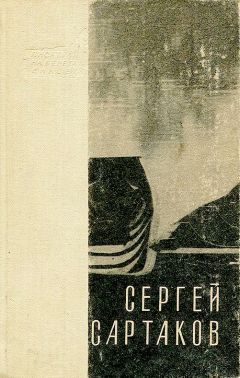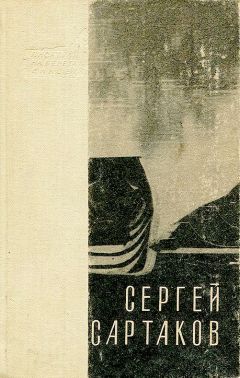— Очень просто. Скажешь, мать с сестренкой тебя провожают.
— Да ведь мать-то у меня больная лежит. Кто этого не знает? — говорю. — А сестры и вовсе нет никакой.
— Чудак! У тебя-то этот змей документов спрашивать не станет. Скажешь в крайнем случае: мать поправилась, а сестра из Иркутска в гости приехала.
Так насел на меня, что я и согласился.
В самом деле: товарищ о своих родных заботится. Кому ущерб? А люди не безбилетные. Представляете, как этим женщинам с вещами в толпе при посадке бока намнут?
Багажа у них оказалось порядочно. Ну, да чего там — силу, что ли, свою жалеть? Через плечо на ремень два чемодана, а в руки еще два и пошел. Илья со своей родней следом за мной шествует. Пассажиры шумят, волнуются. Шахворостов им знаки делает: «Порядочек! Тихо, тихо! Это свои, пароходские».
На трапе действительно — стоп! — вахтенный не пускает. Но Илья тут как тут:
— Да ты что? Это же Барбин — наш новый матрос, с собственными вещами идет. Белье, книги, папиросы. С сестренкой мать его провожает. Леночка, проходи, проходи, дорогая, не бойся.
Ну, и меня вслед за ним потянуло сказать:
— Мама, не задерживайся.
Так и прошли мы.
Усадил Илья родственниц на самое-самое лучшее место, ничуть не хуже третьего класса и, заметим, много дешевле. Ну, конечно, женщины руку пожали мне, всяких горячих слов наговорили, и пошел я от них умиленный. Знаете, как это приятно, когда товарищу поможешь и вообще людям доброе дело сделаешь! Особенно так вот, в начале большого плавания. Этого чувства потом надолго хватает, с чего оно началось, случается, даже забудешь, а все одно в душе что-то звенит и звенит…
Жилище наше мне понравилось. Четыре койки. Две внизу, две над ними. Моя верхняя. Матрас. Чистые простыни, одеяло, подушка. Чего еще пожелать? Другие матросы в кубрике и по десять, по двенадцать человек вместе живут.
Сели мы с Ильей, окошечко открыли — прохладой речной подышать. Ночь, тишина, а все равно Енисей волной в борт теплохода плещет, будто стекляшки там пересыпаются. От луны через всю реку золотая дорожка лежит. Об этом, кажется, Чехов или Тургенев писали уже. А может, и тот и другой? Тогда я — третий. Но не помянуть о ней просто невозможно, такая она красивая и словно приглашает: «Шагай, матрос, на тот берег. Пожалуйста».
Поразговаривали с Ильей. «Ну, значит, опять вместе плаваем?» — «Выходит, вместе». И еще в том же роде, так, всякие пустяки, слова привычные. Только одно он в новинку сказал, интересное: Васю Тетерева назначили боцманом, а совсем недавно избрали секретарем комсомольской организации. Последнее, положим, и не новинкой было.
Поговорили мы и разошлись. Илья опять к своим родственникам, а я — на верхнюю палубу, послоняться до начала вахты.
Поднялся. Стою один. Воздух чистый, свежий, речной. И опять лунная дорожка через весь Енисей. Тянется прямо в горы, к Столбам. Гляжу на нее, и почему-то Маша припомнилась, горный ветер, чище которого даже и на реке нет.
С тех пор мы с Машей не видались. Она тогда сразу же на теплоход ушла. Подумалось: интересно — спит она сейчас или нет? Вот как раз ее владения. Табличка с надписью: «Радиорубка». Рядом и каюта: «Радист». А на нашей обозначено во множественном числе: «Матросы». И дверь в радиорубку дубовой фанерой оклеена, а у нас — простыми белилами покрашена. Да-а… Вот тебе и Маша!
Но все это я подумал совсем не от зависти к ней. Правильно. Заслужила. Полагается. А радист или матрос на теплоходе нужны одинаково. Это дружбе нашей не помешает. И в мыслях тут же запнулся. Это не помешает… А что помешает? Не знаю. Но все-таки в чем-то она от меня словно бы отдалилась, и мне, скажем, сейчас в каюту к ней уже не постучаться.
Тогда я подошел и стал поближе к ее окошку. Жалюзи были опущены, за ними еще — репсовая шторка: угадай, что там? А отсюда, от самого окна, через Енисей тянулась все та же живая, зыбкая дорожка. И мне почему-то казалось теперь, что она идет не в горы, к Столбам, а, наоборот, с гор протянулась сюда, и о ней не скажешь, как не скажешь и о реке, что она течет в обе стороны.
Зимой на квартире Терсковых вечеринка молодежная собиралась. Маша пела «Позарастали стежки-дорожки…». Красивая песня. Но грустная. Не понимаю, почему Маша пела ее. Сама-то ведь никогда не грустит.
Скоро дадут первый гудок. Я подсчитывал как-то: за всю свою жизнь я проделал по Енисею больше чем шестьсот тысяч километров. Выходит, пятнадцать раз объехал земной шар. Гудки своего парохода, на котором плывешь, за это время я слышал тоже, наверное, десять тысяч раз. А все равно, как загудит — в груди у тебя будто медный звон. Особенно когда из Красноярска отваливает пароход. Чего тогда только нет в его гудке, в его голосе! Вроде и прощание с городом: «У-у-ухожу-у-у!..» А в первом — переклик с теми, кто провожает, остается и плачет: «Ни-чего-о-о! Перестань!..» Во втором — с пассажирами уговор, обещание: «По-ове-зу-у-у-у! Хорошо! Хорошо!..» В третьем — уже пароходской команде приказ: «Да-але-ко-о-о! Вперед! Вперед! Вперед!..» Словом, молодец тот изобретатель, который нынешний басовитый гудок придумал, прямо живым сделал он пароход.
Так я простоял у Машиного окошка будто и недолго. Но дорожка из золотой постепенно стала серебряной, а потом — просто белой. Оказывается, начался рассвет.
Пискнул тоненький свисток, сигнал — смена вахты. И я побежал вниз, на свое место. Сейчас начнется посадка. Дизели уже работали, щелкали поршнями так, словно жевали серу.
Не знаю почему, но никуда так не лезут пассажиры, как на пароход. И вправду, после первого гудка сразу же началось, как вам сказать, — «движение»… Передние вклинились в узкий проход и заткнули его, а задним ничего не видать. Ясно, сразу и шум и крики. Чемоданы полетели через головы и прямо по головам. На контроле у трапа стоять в такой момент нужны не матросы, а чугунные статуи. И обязательно еще на болты к полу привернутые.
Но вот чудеса: гляжу — сквозь этот тугой поток, как ледокол, прорезается мой Илья Шахворостов. Нагрузился вещами, шею напружинил, голову вниз опустил и на разные голоса вечные свои прибаутки выкрикивает:
— Ой, дяденьки, тетеньки! Ой, бабочки, стрекозочки! Ой, упаду! Пропустите скорее женщину с ребенком…
И еще болтает какую-то несусветную чепуху. А сам протискивает сквозь народ мужчину в зеленом плаще.
— Костенька, друг, оказывается, тетя-то с мужем. Посади его рядом с ними.
И снова обратно в гущу. А чемоданы подкинул мне. Что делать? Вахта моя у трапов, но на контроле стоят другие матросы. Товарищу надо помочь. Заработал я локтями. На посадке-то с этим никто не считается. Понятно, у всех цель одна: место занять поскорее. Но как ни злятся, как ни волнуются, отвалит пароход — сразу все станут друзьями.
Напарился я с чемоданами зеленого плаща здорово. От дизелей жарко. А от тесноты — в особенности. Но от чемоданов было жарче всего: тяжести они оказались невероятной. Даже для меня. Забежал я на минутку в умывальню, поплескал водой на голову и пошел опять на свое место.
Пробиваюсь к трапам, а у входа в машинное отделение, на самом бою — женщина и с мальчонкой на руках. Вещи к стенке сложила, стоит, а люди, идущие мимо, все время толкают ее. Она даже рукой в стенку уперлась, чтобы не свалили. А лицо у женщины такое безнадежное, будто попала она на теплоход ненароком и теперь не верит, что доедет до места. И тут почему-то вспомнились мне Машины слова: «Нам до всего должно быть дело».
— Гражданочка, — говорю я, — напрасно вы здесь остановились. Это самое плохое место. Перекресток. И от дизелей угарно, знойно. А вы с малышом.
— Откуда же я знала, где лучше? А теперь, конечно, все уже занято.
— Это верно. Но вы пока потерпите, я потом вас получше все же устрою.
— Ох, вот за это спасибо тебе, молодой человек! — говорит. — А я в долгу тоже никак не останусь.
Отошел от нее и только тогда сообразил, что ведь это деньги она обещала. И стало мне сразу не по себе: вот как у нас привыкли еще понимать добрые намерения!
Тут двое мужчин меня спрашивают, как им в третий класс пройти. Видать, впервые на Енисее. Похоже, с юга. Смуглые, брови широкие, черные. Не привыкли, должно быть, ездить в такой тесноте.
— Сейчас никак не получится, — говорю, — пронесло вас мимо входа в третий. Ждите, когда схлынет самый напор. Потом уж займете свои места.
Рассердились:
— Ну и беспорядки у вас! Хотя бы по радио повторяли, куда пассажирам идти.
— Насчет радио, — говорю, — я не знаю, почему оно молчит. По радио должны передавать музыку. А теснота не ради удовольствия. Судов не хватает. Край наш, стало быть, очень хороший, коли так много людей едет к нам. Станьте вот тут, а я пойду — вижу, еще какое-то происшествие.
Сцепились узлы у пассажиров и весь проход перегородили. Ну, ничего, это бывает. Развел я руки, нажал, треснуло, и снова пошло все как следует. А из глубины Вася Тетерев над головами людей рукой мне сигналит. О чем — не пойму. Пробился к нему.