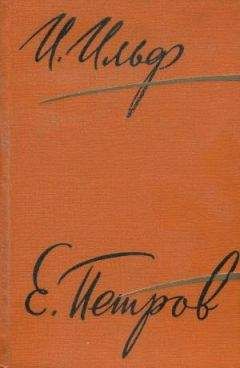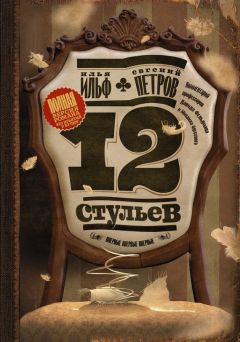– Знаешь, меня беспокоит контрактация. Пошлют инженером черт знает в какую глушь, а отказаться нельзя.
– Неужели это тебя смущает? – сказал Прелюбодяев. – Кто тебя законтрактовал?
– «Стройстрой». Где-то на Урале. А тебя кто?
– Меня на Сахалин должны послать. Там теперь большое строительство. Но мне на Сахалин ехать не придется. У меня объективные причины. Остаюсь в Москве. Дело решенное.
– Как же тебе удалось? – удивился Побасенков.
– Своевременно принятые меры, – скромно заметил Прелюбодяев. – Титаническая работа. Вот результаты.
И Прелюбодяев развернул перед Побасенковым павлиний хвост различнейших документов.
– Антиконтрактационную кампанию я начал еще два года назад. Вот! Во-первых, удостоверение от Адмотдела, что я проживаю в Москве совместно с девяностовосьмилетней бабушкой, абсолютно лишенной возможности покинуть пределы Москвы и области.
– Но ведь у тебя нет никакой бабушки! – воскликнул Побасенков.
– Скажу прямо, пришлось завести. Лучше бабушка, чем Сахалин. Ну, пойдем дальше. История болезни. Это было посложнее бабушки. Прошу взглянуть.
И он протянул коллеге большой медицинский бланк.
– Значит, у тебя невроз сердца, неврастения левого среднего уха и ослабление кишечной деятельности? С каких это пор? – вскричал Побасенков.
– Ты посмотри ниже, – самодовольно сказал Прелюбодяев.
– Боже мой! Рахит! Трещина черепной лоханки! Писчая судорога! Куриная слепота! Плоская ступня! И костоеда!
– И костоеда! – подтвердил Прелюбодяев.
– Но ведь всего этого у тебя нет?
– Нет, есть! Раз написано, значит есть! А раз есть, кто же меня сможет послать на Сахалин с трещиной в лоханке? Но и не это главное. Должен тебе сказать, что я уже служу. В тихой, но финансово-мощной конторе. Знакомства! Связи! Вот все необходимое и достаточное для начинающего инженера.
– А как же я? – печально спросил Побасенков.
– Ты? Ты поедешь на Урал. И ничто тебя не спасет. Ты поздно спохватился. За месяц нельзя приобрести ни бабушки, ни рахита, ни связей, – следовательно, и тихой работы в Москве.
Так оно и вышло. Ловкий Прелюбодяев вывернулся и от контракта увильнул, а глупый Побасенков запаковал свой багаж в скрипящую корзинку, перехватил байковое одеяло ремешком от штанов и поехал на Урал работать в «Стройстрое».
Как полагается в романах и в жизни, прошел год.
Как полагается, были неполадки, неувязки и мелкие склоки. Кто-то оттирал Побасенкова, кому-то и сам Побасенков показывал зубы. Но год прошел, все утряслось, инженер Побасенков приобрел опыт, знание и вес.
Осенью он поехал в Москву выдирать недоданные строительству материалы.
Когда решительным шагом он проходил по коридору нужного ему учреждения, к его щеке прижались чьи-то рыжие усы и знакомый голос радостно воскликнул:
– Побасенков!
Перед уральским инженером стоял Прелюбодяев. Он долго и больно хлопал Побасенкова по плечам, бессмысленно хохотал, а потом сразу скис и сказал:
– Плохо я живу.
– Почему плохо? – спросил Побасенков. – У тебя ведь все есть. Трещина в черепной механике, рахит, бабушка, тихая служба! Чего тебе еще? Кстати, мне нужно получить у вас чертежи конструкций для нового цеха. Ты этим, наверное, заведуешь? Ты ведь конструктор по специальности?
– Что ты, что ты? – испуганно забормотал Прелюбодяев. – Какой же дурак работает теперь конструктором? Это ответственно, опасно. Я тут служу в канцелярии. Так оно спокойнее.
Прелюбодяев огляделся по сторонам и трусливо забормотал:
– Хорошо тебе на производстве. А у нас тут идет вакханалия. Чистка идет. Выкинут по какой-нибудь категории, потом иди доказывай. Хочу идти на производство, у меня уже есть удостоверение о том, что, ввиду моего болезненного состояния, мне нельзя жить в Москве и области. Может, к вам на Урал перекинуться?
– Кто же тебя возьмет такого? – грустно сказал Побасенков. – Знания ты растерял. А бумажки у нас и без тебя составлять умеют. Трудное твое дело, Прелюбодяев. Надо было раньше подумать.
Побасенков давно уже ушел, а Прелюбодяев все еще стоял в коридоре и бормотал:
– На Сахалин хорошо бы, на крупное строительство!
1930
Юный техник Глобусятников безмерно тосковал.
«Все что-то делают, – думал он, сжимая в руке рейсфедер, – один я что-то ничего не делаю. Как это нехорошо! Как это несовременно!»
Положение действительно было напряженное.
Техник Сенека объявил себя мобилизованным до конца пятилетки.
Химик Иглецов ревностно участвовал в буксире.
Все знакомые, как говорится, перешли на новые рельсы, работали на новых началах. И этого Глобусятников, работавший на старых началах и рельсах, никак не мог понять.
– Ну, зачем вам, – спрашивал он Сенеку, – зачем вам было объявлять себя мобилизованным?
– У нас прорыв, – бодро отвечал Сенека, – это позор. Надо бороться. Какие могут быть разговоры, если прорыв?
Остальные отвечали в том же роде. И даже спрашивали Глобусятникова, что он лично делает для выполнения промфинплана.
На это юный техник ничего не отвечал, над промфинпланом он не задумывался.
А жизнь подносила все новые неожиданности.
Металлург Антизайцев премию от своего изобретения в размере ста пятидесяти рублей положил в сберкассу на свое имя и уже был отмечен в кооперативной прессе как примерный вкладчик-пайщик.
Уже и пожилой инженер Ангорский-Сибирский что-то изобрел, от чего-то отказался и также был отмечен в экономической прессе.
А Глобусятников все еще ничего не делал. Наконец его осенило.
– Файна, – сказал он жене, – с завтрашнего дня я перехожу на новые рельсы. Довольно мне отставать от темпов.
– Что это тебе даст? – спросила практичная жена.
– Не беспокойся. Все будет в порядке.
И на другой день юный техник явился в свое заводоуправление.
– С этой минуты объявляю себя мобилизованным, – заявил он.
– И прекрасно, – сказали на заводе. – Давно пора.
– Объявляю себя мобилизованным на борьбу с прорывом.
– И чудесно. Давно бы так.
– На борьбу с прорывом, – закончил юный Глобусятников, – на заводе «Атлет».
– Как? А мы-то что? У нас ведь прорыв тоже, слава богу, не маленький.
– Там больше, – сказал Глобусятников.
И начальство, пораженное стремлением техника помочь промышленности, отпустило его.
На заводе «Атлет» был больше не только прорыв. Было больше и жалованье.
– Видишь, Файнетта, – говорил Глобусятников жене. – Все можно сочетать: жалованье и общественное лицо. Надо это только делать с уменьем. Вот у нас бюджет и увеличился на пятьдесят семь рублей с копейками. Да уж бог с ними, с этими копейками, зачем их считать? Я человек не мелочный.
Через месяц Файна-Файнетта сказала:
– Котик, жизнь безумно дорожает!
– Объявляю себя мобилизованным, – сразу ответил техник. – Мне шурин говорил, что я дурак. На заводе «Атлет» мне платят двести девяносто рублей, в то время как на «Котловане» мне легко дадут триста сорок.
То же самое объявил Глобусятников заводоуправлению «Атлета», умолчав, конечно, о разнице в окладах.
– Объявляю себя… – кричал он. – Там прорыв… Я не могу отставать от темпов.
Техника пришлось отпустить.
И уже ничего не тревожило борца с прорывами.
– Что мне, – говорит он, – химик Иглецов! Подумаешь, участвует в буксире. Я больше сделал. Если нужно будет, я себя не пожалею, не пощажу. Если понадобится, даже жену мобилизую. Она, кстати, довольно прилично печатает на машинке. Самоуком дошла. А вы мне тычете инженера Ступенского! Еще неизвестно, кто больше сделал для блага. Может, я больше сделал! И даже наверно больше!..
1930
О несправедливости судьбы лучше всех на свете знал Виталий Капитулов.
Несмотря на молодые сравнительно годы, Виталий был лысоват. Уже в этом он замечал какое-то несправедливое к себе отношение.
– У нас всегда так, – говорил он, горько усмехаясь. – Не умеют у нас беречь людей. Довели культурную единицу до лысины. Живи я спокойно, разве ж у меня была бы лысина? Да я же был бы страшно волосатый!
И никто не удивлялся этим словам. Все привыкли к тому, что Виталий вечно жаловался на окружающих.
Утром, встав с постели после крепкого десятичасового сна, Виталий говорил жене:
– Удивительно, как это у нас не умеют ценить людей, просто не умеют бережно относиться к человеку. Не умеют и не хотят!
– Ладно, ладно, – отвечала жена.
– И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Вчера Огородниковы до одиннадцати жарили на гармошке и совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли!