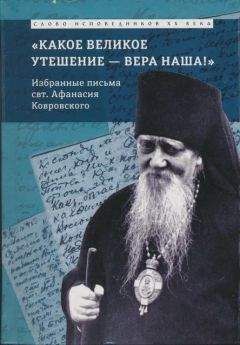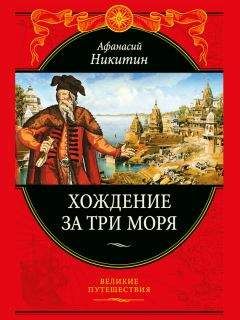Разбираем мы елку в середине января. Занятие это чуть-чуточку грустное, как грустно всякое расставание с праздником, с весельем. Но ведь рядом с нами мать, а с нею любая, даже самая тяжелая и скучная работа становится радостней. Не любит мать поддаваться унынию. Делает все легко, с улыбкою. И нас тому учит. Вот и сейчас, обнаружив на елке возле звездочки не замеченный ни мной ни Тасей пряник, она отрезает его и передает нам с озорными, веселыми словами: «Это вам от зайца». И хотя мы уже большие и знаем, что все это просто смешная детская выдумка, а все равно верим матери и ничего для нас, кажется, нет вкуснее, чем этот последний, уже изрядно подсохший елочный пряник…
Третья четверть в школе от зимних до весенних каникул самая длинная — почти три месяца. За это время мы переживем и тридцатиградусные крещенские морозы, и февральские еще обманчивые оттепели, и последние мартовские вьюги. Бабка Марья, будто не веря, что весна уже не за горами, в середине марта поплотнее кутается в кожух и сокрушается:
— Придет марец — замерзнет и старец.
Но именно нищие (а их зовут у нас старцами) первыми и почувствуют приближение весны. Старая Аксинья, зайдя однажды к нам в дом, обрадованно сообщит бабке Марье:
— Жаворонка в поле видела. Весна скоро!
— Дай-то бог, — вроде бы согласится с ней, но все еще с недоверием бабка Марья.
Аксинья приспустит платок на плечи, посидит молча на лавке, подставляя лицо пробивающемуся сквозь оттаявшее окошко солнышку, а потом вдруг глубоко и тяжко вздохнет:
— Господи, даже не верится, что уже седьмая весна после войны…
— Годы идут, — тоже вздохнет и надолго замолчит бабка Марья.
А мы уже целыми днями на улице. Снег раньше всего стаивает на пастольнике, возле речки, или за церковной оградою, на цвинторе. Мы пробираемся туда и затеваем нашу любимую игру — лапту.
Лед на речке почернел, вспучился и вот-вот должен начаться ледоход. Редко кто уже рискует перебраться по льду на другой, заречнянский берег. Разве что дед Игнат, проверя каждый шаг пешнею, рано поутру перейдет по бывшей санной дороге на луга, чтоб в последний раз перед разливом оглядеть свои владения. Днем, когда солнце особенно припекает, лед трещит, покрывается талою водою, полоем, как ее у нас называют, но все еще держится.
Мы все с нетерпением ждем ледохода. Начинается он через день-другой после того, как в Щорсе возле железнодорожных мостов, боясь заторов, подорвут лед. С утра до ночи доносятся оттуда гулкие, раскатистые взрывы. От каждого такого взрыва в церковных зарешеченных окнах мелко звенят стекла, а сырая, еще не просохшая как следует земля уходит из-под наших ног, клонится куда-то в сторону. И мы волей-неволей начинаем представлять, что же здесь было, когда в сорок первом году немцы бомбили те же железнодорожные мосты, депо и станцию в Щорсе или когда в конце сентября сорок третьего наши войска с ходу форсировали уже холодную и широкую в осеннем разливе Сновь.
Но как мы ни караулим начало ледохода, а весть эту нам чаще всего приносит мать. Рано утром она будит нас с Тасей, тормошит, заставляет поскорее одеваться:
— Вставайте, река пошла!
И вот мы уже на улице. Изо всех ног бежим к речке, а там, наползая одна на другую, все плывут и плывут в сторону новых Млинов и Чернигова льдины. Река разлилась так широко, что берегов ее совсем не видно. Она затопила все пастольники, где мы всего несколько дней тому назад играли в лапту, все Заречнянские и Великощимельские луга, подобралась к огородам, к крыльцу самого крайнего на нашей улице дома бабки Лёли.
Ваня Смолячок, который и тут опередил нас, длинной жердью подтаскивает льдины к берегу, и мы сооружаем на них то высокий шалаш из почерневших за зиму кочерыжек подсолнуха, то какое-нибудь смешное чучело, то зажигаем из старой картофельной ботвы костер. Подхваченные быстрым весенним течением льдины круто разворачиваются и мимо едва заметного сейчас островка, на котором мы в летнюю пору купаемся, отправляются в дальнее свое неизведанное плаванье. От дыхания порывистого не окрепшего еще ветра чучела машут нам на прощанье руками, а костер разгорается все ярче и ярче. Сопровождая льдины, мы бежим по берегу, сколько можно бежать, а потом вдруг останавливаемся, долго смотрим им вслед, и всем нам почему-то становится чуточку грустно. Поздно вечером, уже собираясь ложиться спать, мы с Тасей по привычке выглянем в окошко, которое выходит во двор, и неожиданно заметим далеким-далеко на пойме наш костер. Льдина, наверное, зацепилась за ольховый куст или невидимую под водой кочку, и теперь костер до самого утра будет светиться в ночи, то затухая, то разгораясь все с новой и новой силой. Лишь на следующий день течение сорвет льдину с места и унесет к Новым Млинам, где, может быть, наш костер тоже кто-нибудь заметит на берегу речки и тоже обрадуется ему…
Ваня Смолячок иногда пробует кататься на льдинах. Дело это опасное, но ему ли бояться опасности! Ловко перескочив на льдину, Ваня, отталкиваясь жердью, плывет по-над берегом и кричит нам, весь мокрый и радостный:
— Эх вы, боягузы!
От этих его слов нам становится немного не по себе, немного обидно. Никакие мы, конечно, не боягузы, не трусы. Любой из нас может прокатиться на льдине не хуже Вани Смолячка, особенно, например, Коля Павленко, который вообще ничего не боится… Опасаемся мы не того, что льдина вдруг развалится под нами или что ее унесет течением далеко от берега, боимся мы своих матерей. Если они узнают, что мы катались на льдинах, быть беде, стоять тогда нам по углам до поздней ночи. Да и обуты мы в обыкновенные бурки с калошами-бахилами, не то что Ваня — в резиновые отцовские сапоги…
И вдруг мы забываем и о костре, и о льдинах. Кто-нибудь, случайно запрокинув голову, замечает высоко в небе первого вернувшегося домой аиста.
— Бусел прилетел! Бусел прилетел! — кричим мы все хором и бросаем вверх шапки и картузы.
Как мы его ждали каждую весну! Настоящее тепло приходит к нам с возвращением аиста. По бабкиным предсказаниям, аист обязательно должен прилететь на Благовещенье, седьмого апреля. Так оно чаще всего и случается. Но иногда он, должно быть почуяв раннее тепло, нарушает все бабкины предсказания и возвращается домой к началу ледохода. Словно проверяя свои будущие владения, аист долго и безостановочно кружит над широко разлившейся рекою, над огородами, где уже идут в рост молодые жита, над специально побеленными к Благовещенью хатами. Мы следим за его неторопливым полетом, за каждым взмахом его крыльев, загадываем, какое гнездо он займет в этом году на двух громадных, растущих возле церкви соснах. Но аист не торопится занимать гнездо, он поднимается все выше и выше в поднебесье, пока наконец не превращается в едва видимую черную точку. У нас от этой его высоты, от этого чистого, прозрачного неба, от речного покрытого льдинами половодья неожиданно захватывает дыхание, и мы в растерянности смотрим друг на друга, не понимая, что же с нами происходит…
Не часто мне сейчас приходится бывать весною в родном селе. Но если случается, что во время ледохода окажусь я на берегу Снови и увижу высоко в небе парящего аиста, то опять смутная тревога и беспокойство охватывают меня, и опять я не могу понять, откуда они и почему? Одно только мне ясно, что с годами эти тревога и беспокойство овладевают мною все сильное и сильнее…
А тогда, в детстве, они проходили быстро, в один день. С наступлением весны на нас наваливалось множество всяких забот и дома, и в школе.
Мы с матерью первым делом отбивали окна и откапывали завалинку. В доме сразу становилось по-праздничному светло и чисто. В открытую форточку доносился запах потревоженной земли, березового и кленового сока, который собирали в это время все в округе. Потом мы с Тасей отправлялись выламывать старый малинник. Он растет у нас возле плетня, отделяющего наше подворье от подворья Шуры Крумкача, и занимает едва ли не половину участка, где бабка Марья садит раннюю картошку-скороспелку. Каждую осень бабка грозится часть малинника извести, но по весне об этих своих угрозах неизменно забывает. Да и как его изведешь, когда молодые побеги малины появляются в самых неожиданных местах: то возле недавно посаженных матерью яблонь, то возле ворот, то даже возле погреба, до которого от малинника добрых тридцать метров.
Выламывать малинник лучше всего весною, когда даже на глаз видно, какой прутик уже высох, отжил свое, а какой еще порадует нас летом тяжелыми, тающими во рту от одного дыхания ягодами. За зиму кожура на сухих прутиках побелела, облупилась и теперь трепещет на ветру, словно прозрачная легкокрылая паутинка. Притронешься к ней, и она, оторвавшись от ствола, летит высоко в небо, выше забора и даже выше вербы, которая растет в палисаднике у Шуры Крумкача.