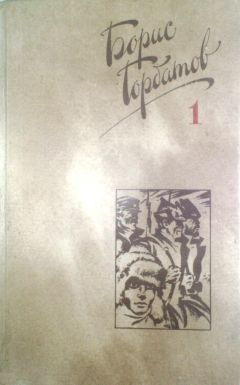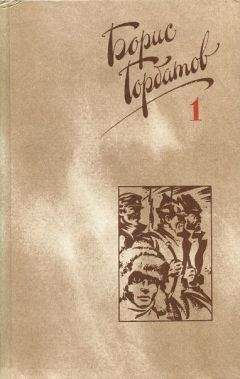Год назад мы яростно кричали новичку на собраниях:
— Не принимать! Не принимать! Он со средним образованием!
Мы знали, кто получал раньше среднее образование, — но сейчас наши, наши парни едут за образованием!
— Дорогу будущим инженерам! — кричал я. расталкивая народ в вагоне. — Дорогу!
А через месяц мы провожали Алешу. Он ехал в Белокриничную секретарем райкома комсомола. На вокзале, в ожидании поезда, он прокричал мне все свои планы. Именно прокричал, спокойно он не мог сейчас разговаривать. Он кричал, что будет работать, как черт! Что он район перевернет вверх дном! Что у него все продумано и записано, как надо теперь работать. Он снова был на гребне, на новом, еще более высоком, чем в школе, гребне. У него захватывало дух и кружило голову.
— Кланяйся Павлику! — кричал я Алеше вслед. — Удачи!
Сколько проводов было за эти десять лет! И каждому, как мне сейчас, ребята кричали вслед:
— Удачи!
Спасибо, ребята!
И вот уже бегут километры. «Ходу! Ходу!» — мелькают станции... степь... шахты... Еду день. Второй. Еду! Еду!
Страшно ли мне? Боязно? Что впереди?
Скрипя новыми сапогами, пришел кондуктор и объявил:
— Следующая остановка — Москва!
1931 — 1933
Очерки, корреспонденции. 1932 — 1936
Чернорабочего-башкира послали на колошники подобрать железный лом: гайки, болты, обрезки железа. Домна приводилась в пусковую готовность.
Башкир взял большой совок и медленно начал подниматься по крутым железным ступеням.
Над домной хрустело морозное январское утро. Колкий и ломкий шел снежок.
Чернорабочий остановился и перевел дух. Под ним далеко вокруг бежала белая мерзлая степь — легкий ветер шел по ней, завивая снежную пыль.
Башкир родился здесь, в округе; его отец гонял по пустынной степи косяки коней. Чужие косяки, своего ничего не было, только детей много, беды своей много.
Не табунятся теперь тут косяки — паровозы бегают по горе. Это башкир хорошо видит с высоты домны. Нет пустынной степи. Грохот и звон стройки стоит над степью.
Рабочий забыл, за чем его послали, — засмотрелся.
Под утренним солнцем багровая пылает гора Атач — миллионы тонн руды, не выплавленной еще в чугун, холодной, мертвой, ожидающей динамита, паровоза и доменной печи. На крутом скате Ай-Дарлы нависла рудодробильная фабрика. Хоперкары руды идут по жилам железных дорог к домне.
Башкир медленно переходит на другую сторону. Теперь ему видны стройные, как тополя, скруббера Коксо-химкомбината. Пар стоит над тушильной башней. Из печей синее рвется пламя. Одна батарея — шестьдесят девять печей — восемьсот тонн кокса в сутки. Всех батарей будет восемь. Темно-серый, дымчатый кокс лежит на платформах. Кокс идет к домне.
Башкир удивленно смотрит на степь, по которой отец его гонял чужие косяки.
С дорог идет синий пар. Скованная льдом и самой большой в Европе плотиной лежит бывшая казацкая река Яик, ныне большевистская река Урал. Стоят по степи корпуса цехов, электростанций, контор, жилищ.
— Це-це-це, — произносит башкир и замирает. Совок падает из его рук и звонко шлепается. — Це-це-це! — восхищенно качает он головой. Смотрит вниз, где копошатся люди, много, густо людей: почти двести тысяч село на эту землю, богатую рудой и будущим. Но внизу на бункерной эстакаде башкир замечает обер-мастера Бугая. Тот машет рукой, и чернорабочий думает, что это его торопят. Тогда он подымает совок и, все еще озираясь по сторонам, жадно и глубоко вдыхая морозный воздух, идет дальше.
Обер-мастер Бугай, Митрофан Кондратьевич, ходит вокруг домны легким своим молодым шагом.
Двадцать шестую на своем веку печь ладит он к задувке.
Он помнит числа: в сентябре 1926 года готовил к пуску косогорскую доменную печь. 20 апреля 1929 года пускал первую керченскую... Живая, на легких, не старых еще ногах, история доменного дела в России — ходит Бугай по своей двадцать шестой печи.
— Эта печь — всем печам печь... — говорит он, и горновые, смеясь, подхватывают:
— Да, печурка ничего...
Несколько месяцев уже присматриваются они к ней.
Горновые потеряли здесь обычное у доменщиков снисходительное отношение к «печурке». На эту Домну Иванну, которая в сутки будет давать тысячу тонн чугуна, смотрят с почтением. Ее изучают, к ней присматриваются, овладевают сложными ее механизмами.
Бугай осматривает еще и еще раз арматуру, лезет в печь, шарит рукой в фурменных рукавах.
Двадцать шестая готовка к пуску.
— Первая магнитогорская домна готова к пуску, — сообщает в НКТП начальник строительства.
Утром 26 января на домне застучали топоры. Это во временном деревянном прикрытии, окружающем домну, ломали ворота — путь коксу.
Более семидесяти тонн отборного металлургического кокса лежало уже на парковых путях горячего чугуна.
Доменщики нетерпеливо ждали приказа: начать загрузку. Они приехали сюда с южных заводов, — братская помощь старого металлургического Юга новой, молодой угольно-металлургической базе — Урало-Кузбассу.
В машинной будке нервничал машинист скипового подъемника Вербенчук.
Он то и дело срывал телефонную трубку и кричал сердито:
— Ну, что же ток? Ток давайте...
Или нетерпеливо смотрел через большое окно на наклонный мост. Рельсы покрывались легким снежным пухом.
Наконец ток дан.
— Ну, значит, нам начинать! — торжественно сказал Вербенчук своему помощнику.
Часы показывали час двенадцать минут дня по местному времени.
Вербенчук повернул рукоятку регулятора и озабоченно, напряженно посмотрел в окно. Из скиповой ямы медленно выполз скип с углем. Грохоча и подымая снежную пыль, он пошел по наклонному мосту. Пошел осторожно, недоверчиво, словно проверяя готовность механизмов.
— По-о-ше-ол! — засмеялся, наконец, Вербенчук и закурил папироску.
Загрузка первой магнитогорской домны началась. И пока летели об этом во все концы мира «молнии» и радиограммы, у горна шло тихое и короткое совещание.
Седой обер-мастер Иов Тимофеевич Кабанов говорил своей смене:
— Так, ежели нужно, останемся сверх смены? И встречный план: на четыре часа сократить загрузку. Так, что ли?
— На том согласны.
— Конченное дело. По местам.
Свиридов, Митюк, Лактионов лезут в печь. Карпушенко, Филонов, Оленев становятся у леток.
Идет загрузка.
Чтобы предохранить от побитости дно печи — лещадь, — вручную создается защитный угольный слой миллиметров в триста. Поверх этого слоя ляжет кокс. Его тоже сначала будут загружать вручную до фурменных отверстий, чтобы не побить огнеупорную кладку печи.
Мастер Кабанов руководит загрузкой. Растрепанная его капелюха съехала набок.
— Не опущайте крыльев, товарищи! — кричит он то тут, то там. — Не опущайте крыльев, пожалуйста!
Он кричит это больше для порядка. Горновые работают с увлечением.
Вокруг горна рождается конвейер. Со двора через пробитые во временном прикрытии ворота идут по рукам полные ведерки с углем. Через отверстие шлаковой летки их подают в печь, горновые рвут их из рук, разбрасывают уголь по лещади, подымая облака липкой, горькой угольной пыли, и бросают пустые ведерки в резервную летку.
— Эй, дава-ай! — сердито кричит Свиридов.
Лицо его в угольной пыли. Он задыхается, кашляет, но сменяться не хочет. Потом машет рукой и вылезает. На смену лезет Филиппов, а Свиридов, отплевывая густую, черную мокроту, становится к летке.
Смена осталась работать еще на четыре часа.
— Вы ж смотрите, — говорила она заступавшим на их место товарищам, — встречный-то...
Потом толкались около Щербины — секретаря партячейки, подавали заявления о вступлении в партию «по случаю пуска».
Двадцать восьмого, в четыре часа утра, на загрузке начали работать механизмы.
Из хоперкаров, застывших на бункерной эстакаде, ползла в бункера руда. К бункерам подъезжал вагон-весы. Машинист Ивандюк управлял этой сложной, недавно еще появившейся в нашей технике штукой. Руда из бункеров шла в вагон, автоматически взвешивалась. Ивандюк внимательно следил за правильностью дозировки.
Потом вагон шел к скиповой яме. Там стоял уже тупорылый пустой скип. Легко подымалась дверка в вагоне, и руда все тем же торопливым, шумным потоком сползала по железным рукавам в скип.
Вербенчук поворачивал рукоятку, и скип легко и весело взбегал по наклонному мосту, взбирался на колошники, под самое доменное небо, задерживался чуть-чуть на конусах и, наконец, решительно наклоняя вперед голову, сам опрокидывался. Руда попадала в печь.
Вчерашний землекоп, пензенский колхозник, молодой, голубоглазый парень. Ионов поставлен сейчас у механизма.
— Гризли — машине этой название, — говорит он, очень довольный тем, что находится при механизме, который он в усердии назвал даже машиной «гризли».
У него несложная работа. Он поворачивает руль, подымается задвижка, и по небольшому скату устремляется идущий из бункеров поток кокса. Он ползет все туда же, в скип, жадно разинувший рот.