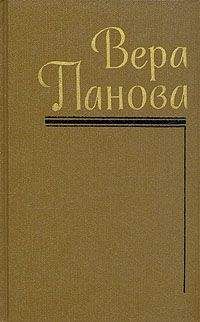После экскурсии мальчик играл в теннис с пожилыми отдыхающими и все время бегал для них за мячами, потому что пожилые люди не могли и не хотели бегать сами.
И опять была кормежка. За столом сосед мальчика стал требовать:
— Я же просил жаркое без лука, мне нельзя лук, уберите лук!
И ему поставили жаркое без лука, а мальчику было немного неловко, что взрослый человек так шумит из-за лука, но другой сосед сказал:
— В нашем положении диета — вещь серьезная. Съешь чего-нибудь не того — и будь здоров…
А вечером было кино на открытом воздухе, с поцелуями героев и громкими — на всю окрестность — голосами, от которых дрожала листва акаций в парке.
Перед сном, в симпатичном обществе взрослых людей, на террасе мальчик участвовал в разговоре. Один отдыхающий говорил:
— В наши дни люди живут долго, поэтому все у них дольше теперь: и детство дольше, и молодость, и зрелость. Прежде в двадцать лет человек считался зрелым…
— Средняя продолжительность жизни была в два раза меньше, — сказал другой отдыхающий.
— Вот именно, — сказал первый. — В двадцать лет считался зрелым, а теперь человеку под сорок, а он все для окружающих Костя или Шурик.
— Лермонтову было двадцать семь, когда он погиб, — сказала почтенная дама, — а он уже был великий поэт.
— Да, — сказал второй отдыхающий. — А теперь поэту под сорок, а он все еще начинающий.
Мальчик сидел на перилах террасы и смотрел на луну. Она очень подросла с тех пор, как он ее видел из вагонного окна.
И опять день, опять море, опять купанье.
Пожилые мужчины лежали на пляже рядом с мальчиком, и один сказал:
— Первые дни было двести двадцать на сто тридцать.
— Кошмар! — сказал другой.
— А сейчас немного снизилось — нижнее сто десять, а верхнее двести.
— Все равно кошмар, — сказал другой. — Вам нельзя было ехать на юг.
Пришла на пляж незнакомка в большой войлочной шляпе.
Мальчик осторожно заглянул под шляпу: незнакомка, стройная и легкая, годилась ему в матери.
— Молодой человек, — окликнула его женщина в китайском халате, будьте добры, принесите мне зонтик — шестнадцатая комната…
Он побежал, нашел зонтик в шестнадцатой комнате, принес женщине и очень вежливо отдал, а она взяла, едва взглянув на мальчика, потому что, как всегда, играла в карты. Ей тоже, наверно, было за тридцать, она напоминала ему мать, и он был с ней вежлив, как с учительницей, — он был воспитанный мальчик.
Около играющих стоял затейник и смотрел, как играет женщина. Он сказал:
— Приятный молодой человек.
— Да, — сказала женщина.
— Только все время один да один.
— Образуется, — сказала женщина и посмотрела на затейника. И они улыбнулись.
Мальчик не слышал их разговора.
Мимо прошел толстяк с градусником и стал измерять температуру воды в море, не доверяя сведениям, обозначенным на доске у входа на пляж, а жена ему кричала из гущи отдыхающих:
— Костя, тебе нельзя купаться, если меньше двадцати четырех, Костя, ты помнишь, что доктор сказал?
Толстяк наклонился над водой, и жена подошла к нему, чтобы посмотреть на градусник, и они стояли у берега по щиколотку в воде, а мальчик сердито смотрел на них. Потом он отвернулся и лег на спину, — в небе высоко-высоко шли самолеты, оставляя белые полосы. Мальчик следил за ними, потом перевернулся на живот, взмахнув руками, как птица крыльями.
Чего-то ему не хватало. Ему не хватало чего-то для полноты счастья.
Жизнь подсказала ему и показала, чего не хватает.
На пляж пришла и расположилась рядом с мальчиком пара новеньких: громадный мужчина атлетического телосложения, коротко стриженный, уверенный, неторопливый, и его спутница, нежная и молодая.
Они пришли на пляж, держась за руки; потом побежали к морю, держась за руки; а потом мужчина вынес женщину из воды на руках, а она смеялась и неожиданно быстро поцеловала его.
Весь пляж смотрел на эту пару, и мальчик тоже смотрел.
Две женщины за спиной у мальчика сказали:
— Все-таки это безнравственно — целоваться при посторонних.
— Смотреть противно.
Но смотреть было совсем не противно, женщины покривили душой.
Затейник сказал:
— Молодость — это половина счастья, а любовь — это его вторая половина, причем лучшая.
Женщина в китайском халате оторвалась от карт и сказала с улыбкой:
— Это еще вопрос, какая половина лучше.
Эти разговоры мальчик услышал.
Нестерпимо скучно вдруг стало ему.
Он огляделся.
Нестерпимо тесно вдруг показалось на пляже.
Рядом с ним, закрывая от него даль, возвышалась фигура мужчины-гиганта. У ног мужчины на песке сидела женщина. Она сидела, обняв свои колени, нежная и влюбленная.
Мальчик встал и пошел меж человеческих рук, ног, голов, туловищ, набросанных на песке.
Пошел в парк. Женщины попадались ему навстречу Одна прошла, другая, третья, четвертая…
Он всматривался в них вопросительно. Не то чтобы сравнивал и выбирал, нет, все было бессознательно — и поиски, и тревога, что толкала на поиски. Ни одно лицо его не привлекало, к тому же все женщины были старше его, годились ему если не в матери, то в старшие сестры.
Он сел на скамейку. Две тонкие ветки орешины покачивались над его головой, густая сеть теней лежала на дорожке. Между деревьями, в глубине парка, стояла белая скульптура — лыжник, прыгающий с трамплина.
В конце аллеи показалась тоненькая девушка в светлом платьице. Мальчик насторожился. Она подходила все ближе, улыбаясь, и он уж подумал, что эта улыбка адресована ему, и оживился… Но оказалось, что не ему улыбается девушка, а своему молодому человеку, который шел ей навстречу и которого мальчик заметил только тогда, когда тот прошел мимо. Молодой человек взял девушку под руку, и они ушли своей дорогой. Оживление мальчика прошло, он разочарованно откинулся на скамейке.
А потом он сидел на перилах террасы и слушал взрослые разговоры.
— Первый раз я влюбился, когда мне было девять лет, — сказал затейник. — Ей было столько же, и, на мое счастье, она не ответила мне взаимностью — я бы не знал, что мне с этой взаимностью делать.
— В девять лет — это редкость, — сказал другой. — Хотя, как говорится, любви все возрасты покорны.
— А вы, молодой человек, уже бывали влюблены? — спросил кто-то у мальчика.
Но за него ответил затейник:
— Молодому человеку о любви разговаривать не полагается, ему полагается стесняться. Конечно, бывал, о чем тут спрашивать.
Мальчик был рад, что не надо отвечать. Он спрыгнул с перил и ушел на свою скамейку в парк, чтобы посидеть в одиночестве. Две тонкие ветки покачивались над его головой, светясь в лунных лучах…
…Две ветки — и две молодые руки, тонкие и точеные.
Не раз они протягивались перед мальчиком, подавая ему еду; но до сих пор он как-то не поинтересовался взглянуть на ту, которой они принадлежали.
— Спасибо, красавица, — сказал кто-то за их столом.
Он поднял глаза и увидел милый профиль, уголок свежего рта и пушистую прядку из-под косынки.
И обрадовался — это было то, чего ему не хватало, то, что он искал.
Почему он не замечал эту девочку, эту подавальщицу? Может быть, потому, что она была одета как все подавальщицы: в серенькое платье, передник и косынку, — неотличимо.
— Здравствуйте! — сказал мальчик. — Это вы!
Она взглянула на него смущенно-вопросительно, но вслух не спросила что это значит.
Наступило время обеда.
Все уже поели и ушли, когда пришел мальчик.
Он сел за пустой столик.
Подошла девочка, принесла первое. Он сказал:
— Здравствуйте!
— Мы уже здоровались, — сказала девочка. — Утром.
— Ну, утро — это было давно! — сказал мальчик.
«Это ты просто так, — спросила она беглым взглядом, — или есть в твоих словах значение?..»
И отошла к соседнему столику, чтобы подать суп другому опоздавшему, а мальчик посматривал на нее, рассеянно мешая ложкой в тарелке. Девочка прилагала все усилия, чтобы не смотреть на него, — лицо ее стало напряженным от этих усилий, но, проходя обратно с пустым подносом, не выдержала — посмотрела. И обрадовалась: смотрит!.. И мальчик обрадовался: посмотрела!..
— Вы заняты с утра до вечера, с утра до вечера, — сказал он, когда она принесла второе. — А погулять когда же?
— Мы работаем посменно, — сказала девочка. — День я, день Таня.
— Теперь я узнал, как вас зовут! — сказал мальчик.
«Как это?..» — спросила она глазами.
— Вас зовут не Таня! — объявил он, и они улыбнулись друг другу.
Раньше он ничего не замечал, кроме платьица — такого же, как у всех остальных подавальщиц, кроме передника, и воротничка, и косынки — таких же, как у всех остальных подавальщиц; одинаковые, они сновали по столовой взад и вперед.