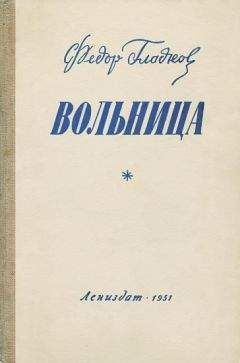Студент по–свойски предупредил его:
— Я сейчас выхожу, Миша.
Он поднял меня на руки и перенёс на кровать.
— Ну, прощай, кудряш! Немножко полежи, успокойся, приди в себя. — Он одобрительно улыбнулся и протянул мне руку. —Выдержал испытание — крепись дальше. Несправедливостей и ударов ещё много будет в жизни. Но духом не падай!..
Он всем пожал руки, а Иванку даже потрепал по плечу.
— А ты мне, дружок, очень понравился. Держись и дальше молодцом.
И для Паруши нашлось у него доброе слово:
— Не напрасно ты жизнь прожила, бабушка Паруша: в таких, как ты, народ хранит силу свою и гордость.
Паруша поклонилась и с достоинством ответила:
— Не обессудь, милый вьюнош! В труде мы живём, в труде и богу душу отдадим. Я чести своей и смолоДУ за копейку не продавала. А спроть анафемы да лиходеев небоязно, с открытой душой стояла. Правда‑то всегда к солнышку ведёт, а кривда с нагайкой да в чёрной рясе рыщет, чтобы распять её. А правда‑то страха не боится.
Она опять поклонилась ему и кротко попросила:
— Не откажи в милости, вьюнош: погляди на старичка, на дедушку Федяньки. Урядник‑то больно его удостоил: на пол его кулачищем своим свалил. Много ли старичку надо‑то…
Они вышли из избы, а Иванка наклонился ко мне и прошептал:
— Я вечером буду ждать тебя на прощание у межевого столба. Не забывай, письма друг дружке писать будем.
Едва сдерживая слёзы, он оторвался от меня и выбежал из избы.
А вечером к избе подъехал тарантас. Бабушка стонала и плакала, а дедушка простился истово и только сказал через силу:
— Ну, мир дорогой! Не избаловайтесь там… Родителей не забывайте. Пускай Васянька‑то хоть рублишка два пришлёт…
Так мы и уехали из деревни украдкой — не просёлочным трактом, а полевыми межами и малопроезжими дорогами. Кузярь ждал нас на ключовской грани, а мы ускакали в другую сторону. И мне было очень горестно: он, должно быть, ждал долго и терпеливо — ждал один в ночной звенящей тишине до петухов и ушёл домой, словно обманутый, с тяжёлой обидой в душе и с болью разлуки без расставанья — без последнего слова и объятия.
Поля вокруг пропадали во тьме и сами превращались в ночь, а у дороги рожь струилась и мерцала застывшими дымками и уплывала назад, растворяясь в ночной мгле. Впереди и по сторонам очень далеко чёрными тучами клубились перелески. И небо было бездонно–синее с реденькими искорками звёзд. Близко и далеко щёлкали перепёлки и тревожно крякали дергачи, словно им было жутко одним в безжизненной ночной пустоте и они перекликались, чтобы не чувствовать себя одинокими к беззащитными. Дергачи беспокойно хрипели: «Бер–регись, бер–регись», а перепёлки храбрились: «Без переполоха, без переполоха!..» Но мне чудилось, что они предупредительно кричали мне, как будто знали, что мы бежим из деревни, что за нами урядник может верхом поскакать в погоню.
Мать часто оглядывалась и боязливо вздыхала, прислушивался и я и вглядывался назад, где исчезла в далёкой тьме наша деревня. В этой тревожной насторожённости и мучительном страхе стук колёс и топот копыт нашей ходкой лошадки казались далёким грохотом настигающего нас целого табуна лошадей. В эти минуты я совсем не чувствовал боли на спине и не ощущал толстой и тугой повязки на теле. Один раз я замер от ужаса, когда впереди вдруг зачернели на дороге сбитые в кучу тени верховых, которые шевелились и как будто молча подстерегали нас. Испугалась и мать, и мы невольно прижались друг к другу. Но кучер спокойно сидел на козлах, покуривал цыгарочку и подбодрял лошадь вожжами. Страшные тени оказались высокими зарослями кустарника на широкой меже.
А кучер, вероятно, догадался, что мы всё время были в тревоге, в нервном ожидании погони, — он обернулся к нам и засмеялся:
— Вы чего это съёжились‑то? Аль боитесь, что догонят да свяжут вас? Не бойтесь. Эта образина, урядник‑то, сам дал лататы: перед нашим мировым он и все барбосы глистами ползают. Он за ихнее живодёрство их под ножом держит. Наших бар голыми руками не возьмёшь: они в Петербурге‑как дома. Спи спокойно, паренёк, тебе больше всех досталось.
Он опять засмеялся, повернулся к лошади и чмокнул на неё губами. Потом опять наклонился к нам и вполголоса сообщил:
— Молодой доктор‑то — из студентов. Сродственник ихний, тоже из Петербурга. Он ещё больше к народу льнёт: по домам ходит — больных лечит. А по вечерам с парнями, как с ровней, валандается. Дружок мой. А я тут недавно: не здешний. С ним, со студентом, приехал. Рабочий я — с завода. Выкинули меня с волчьим билетом. Против капиталистов шёл с товарищами. Нас несколько человек таким манером выбросили. В столицах нам места нет. А тут работа большая: надолго хватит. И студент, само собой, помогает. Гсрбатенький‑то сквозь пальцы смотрит: они с братом‑то, с Михаилом Сергеичем, и в Питере считаются друзьями рабочих. Меня они и приняли поэтому.
И уже совсем тихо, полушёпотом, с оглядкой, быстро проговорил:
— Знаю, интересовался вашим положением: к отцу едете, к рабочему. Поэтому с охотой еду с вами и не таюсь. Мы, рабочие, — одна семья. А вашу беду, которую наши враги уготовали вам, мы обсудим и врагов на чистую воду выведем. И кой–кого из ваших в союз возьмём. Вы не знаете, какая большущая смута идёт: драка огромадная будет. Рабочий класс — сила великая: он железный кулак готовит. Он всё по–своему устроит. Капиталистам да помещикам не властвовать.
Мать тоже тихо сообщила:
— Мы ведь с Федей тоже в рабочей артели жили: на ватаге работала я.
— Ну вот! — обрадовался кучер. — Так ты меня должна с полслова понимать.
Мать слушала его с живым любопытством: я чувствовал, что она сразу поверила ему и успокоилась. Мне тоже этот рабочий понравился: он расположил к себе и дружеским голосом, и уверенностью в нашей безопасности, и презрением к уряднику. Но особенно он покорил меня своей ненавистью к полиции, к попам, к богачам и своим вдумчивым участием к моим испытаниям.
Он напоминал мне чем‑то моих ватажных друзей — Гришу и Харитона. Я уже научился чувствовать и разгадывать таких людей и узнавать в них родные души. Такие люди сразу пленяли меня своей внутренней силой, и я всем сердцем тянулся к ним, как к верным защитникам.
— Больно уж народ‑то у нас несогласный… — с обидой пожаловалась мать. — Каждый за свой плетень прячется да за лошадиный аль коровий хвост держится.
Миша засмеялся, подумал и обернулся.
— В том‑то и беда, что у мужика борода — узда. На такие поговорочки сам мужик — мастак. Лучше его никто сам себя на смех не подымет. А то другая есть у него поговорка: у мужика одна утеха — дыра да прореха. Да ещё прибавит: только мухи живут без голодухи. Вот власть‑то за бороду мужика и держит.
Он опять наклонился к нам и так же секретно сообщил:
— И у нас, в Ключах, и в других экономиях по одному, по два рабочие собираются. Такие же, как я. Везде экономии‑то машинами хлеб обрабатывают. И слесаря, и машинисты, и всякие мастера нужны. У нас вот Ермолаевы паровую мельницу хотят строить, а рядом с ней спиртогонный да сахарный завод. А мы, пока суд да дело, свою работу ведём.
Так ехали мы долго среди ночных запахов травы и молодых колосьев и выбрались на столбовую дорогу за очень длинным селом. Я уже не думал о погоне: дружелюбие парня и его бодрая уверенность, что нас ночью никто не хватится, а урядник опамятуется, может быть, только завтра, да и то без станового не решится нагрянуть в село, успокаивали меня. Да и мать повеселела и как будто отудобила от пережитых ужасов: она уже не прижималась ко мне, замирая от страха, а выпрямилась и смотрела вперёд с радостным волнением. Она даже спустила платок с головы на плечи, и я в темноте видел, как светилась улыбка на её лице.
Страшные потрясения этого дня так надломили меня, что я обморочно заснул и не ощущал уже никаких болей в теле.
Разбудила меня мать только на вокзале, и первым впечатлением моим был гудок паровоза.
Так закончилась бегством наша жизнь в деревне. Перед нами открывалась неведомая даль, полная невнятных обещаний и надежд.