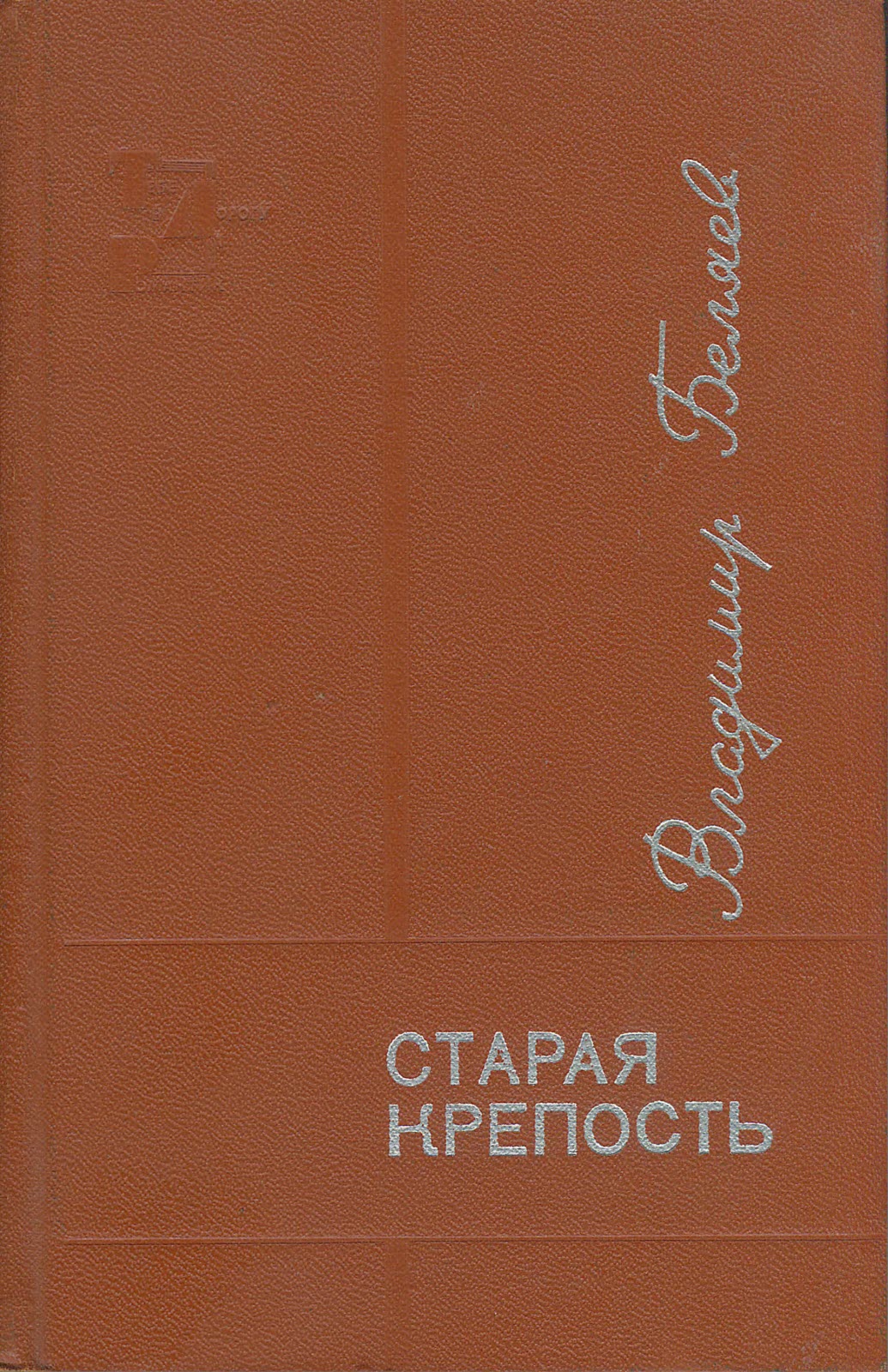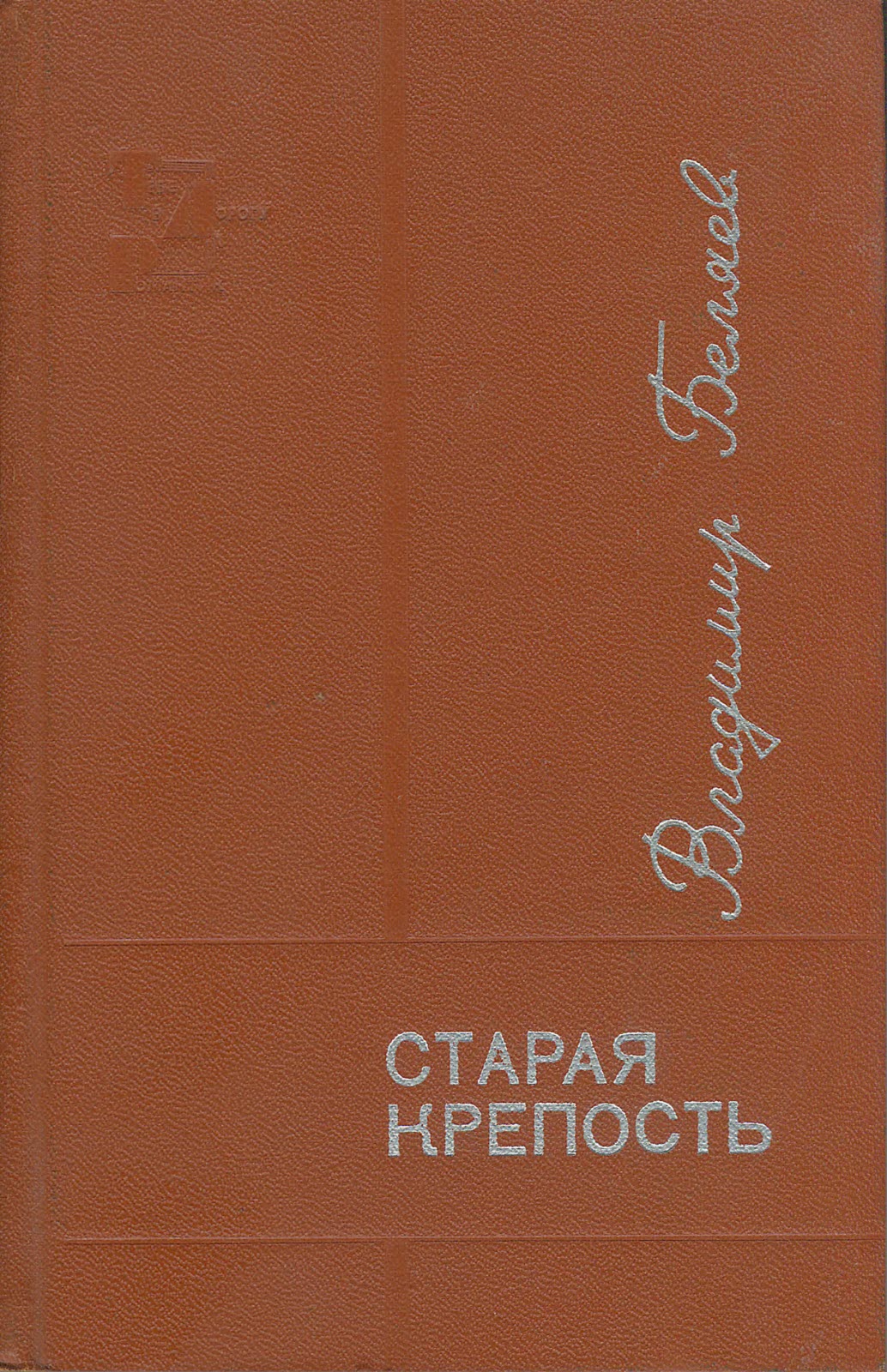крашенные зеленой краской соломорезки с круглыми чугунными маховиками на боку.
Завод в нашем городе был самым большим предприятием: на нем работало сто десять рабочих, по утрам заводской гудок ревел так громко, что его было слышно и на Заречье и даже у нас — в совпартшколе.
Узенькая железная труба с острым колпачком, притянутая к земле четырьмя тросами, дымилась над заводом. Когда мы подошли совсем близко, запахло курным углем.
— Ты… очень торопишься? — спросила меня Галя, останавливаясь.
— Нет, а что?
— Подожди меня. Хочешь? Я снесу папе завтрак и — назад.
— Только быстренько. Раз-два!
— Я недолго! — крикнула Галя и убежала. От ветра ее голубой сарафан надулся, обнажив длинные, загорелые ноги. Галя бежала легко, поправляя на бегу свободной рукой волосы. Когда она скрылась за воротами, я подошел к заводу и стал прогуливаться по тротуару.
Завод стоял на крепком кирпичном фундаменте. Сквозь разбитые стекла его чугунных переплетов доносился скрип станков. Кто-то крикнул. Тяжело ухнули кувалдой.
Хорошо, должно быть, работать там, внутри завода, у станка, и растачивать острыми резцами твердое железо! А потом, когда наступит обед, сидеть на солнышке на заводском дворе, посреди старых поржавевших маховиков, обломков железа, и есть из платочка свежий хлеб с краковской колбасой. Солнце греет вовсю, птицы поют на деревьях в соседнем больничном саду, а ты знай себе сидишь да не спеша пожевываешь колбасу. Времени на обед дается на заводе много — целый час, словно на большую перемену в трудшколе.
А как, должно быть, приятно, когда тебя спросят, кто ты, ответить: рабочий! Да еще добавить погодя: работаю на заводе «Мотор»! Это очень много значит — работать на заводе «Мотор», быть металлистом. В нашем маленьком городе есть рабочие-типографщики, железнодорожники, мукомолы, деревообделочники, но никого так не уважают, как металлистов. Про них все говорят: это чистокровные пролетарии, это настоящий рабочий класс!
В большие революционные праздники, когда колонны жителей города маршируют перед сосновой трибуной по бывшей Губернаторской площади, сразу же за главным оркестром идет завод «Мотор». Идут литейщики, слесари, кузнецы в кожаных фуражках, в синих спецовках. Знамя завода, тяжелое, бархатное, обшитое золоченой бахромой, — самое красивое в городе. На этом красном бархате масляными красками нарисован в кожаном фартуке рослый рабочий, выпускающий из высокой черной печки струю расплавленного металла.
Знамя для завода было сделано не в нашем городе, как знамена других профсоюзов. Бархатное знамя металлистов заказывали в Киеве, и делали его там лучшие мастера. Это тяжелое бархатное знамя обычно несет самый сильный из металлистов-литейщиков, Козакевич, любитель французской борьбы и очень веселый парень. Недавно, когда трудящиеся города в годовщину захвата румынскими боярами Бессарабии демонстрировали перед исполкомом, требуя вернуть Бессарабию, было пасмурно и ветрено. Ветер рвал изо всей силы бархатное полотнище знамени, древко гнулось, но Жора Козакевич шел впереди колонны с высоко поднятой головой и не выпустил знамени из своих загорелых мускулистых рук. Да что там говорить! Рабочим-металлистом очень почетно быть. Жаль, что мне нельзя сейчас попытаться поступить на завод. Надо окончить рабфак и потом…
Я подошел вплотную к задымленной выхлопной трубе. Она торчала прямо из стены — черная, немного загнутая вниз. Камни на тротуаре под трубой закоптились, стали скользкими от нефтяного нагара и блестели. Из трубы вылетал голубоватый прозрачный дымок.
А ну, интересно — горячо или нет? Я осторожно провел под трубой рукой. Ладонь мою сразу обдало тугим и теплым дыханием двигателя.
Потрогал и трубу — теплая.
А что, если закрыть трубу совсем, остановится двигатель или нет? Но только я поднес ладонь к черному и скользкому отверстию, как ее сильной струей теплого воздуха сразу же отбросило вниз. Тогда я подложил обе ладони вместе, но и они были отброшены вниз сильной струей газа.
Скоро ладони покрылись маслянистым глянцем и пахли, как труба, перегорелой нефтью, заводом, станками.
«Должно быть, так пахнут все металлисты», — подумал я, и мне стало не по себе, что я — лодырь — шатаюсь по улицам днем, когда все работают, а самое главное — неуютно стало на душе оттого, что мне предстояло гулять еще долго, до самой осени, др того времени, когда начнутся занятия на рабфаке.
— Василь! — послышалось издали. — Пошли!
Я обернулся. Помахивая пустой корзиночкой, Галя ждала меня у ворот.
Мы погуляли с Галей еще немного на бульваре, покатались там на качелях; когда я понял, что Галя перестала на меня сердиться, я проводил ее домой и, веселый, пошел купаться к водопаду.
Но вот ближе к ночи, когда зажглись все шесть окон курсантского клуба в здании совпартшколы, мне сделалось очень тоскливо. Не заходя к родным, я вышел из кухни и сел на ступеньках каменного крыльца.
Большой жук пролетел над ветками явора и сразу же круто взвился вверх. В красном флигеле напротив, где жил начсостав школы, было ярко освещено одно окно. Из этого окна доносились звуки балалайки. Там жили Картамышев и Бойко. Видно, это кто-нибудь из них играл сейчас на балалайке.
На кухне мыли посуду после курсантского ужина. Слышно было, как постукивают в чанах с горячей водой алюминиевые ложки, миски, большие кастрюли из-под соусов.
Я вспомнил о сегодняшнем обещании повести Галю в кондитерскую к Шипулинскому. Уже после полудня, когда, нагулявшись вдоволь по дорожкам бульвара, мы расставались, Галя лукаво посмотрела на меня и спросила:
— Скоро будем есть пирожные, да?
— Ну конечно! — сказал я басом и поспешил поскорее уйти. Теперь нельзя было показаться на глаза Гале, пока у меня не будет денег, иначе она подумает, что я лгун и обманщик вроде Петьки Маремухи. Но где взять денег? Одолжить у Петьки? Не даст! Да и нет у него столько денег — копеек двадцать, может, наберется. Жаль, что я выменял у Петьки на его револьвер своих голубей. Для чего он мне, этот револьвер? А голубей можно было снести на птичий базар и продать.
Что же еще можно продать из моих вещей? Я стал перебирать в уме свое имущество: клещи, молоток, снарядные капсюли, альбом для марок. Все это для продажи никак не годилось.
На кухне сильнее загромыхали посудой. Я представил себе, как старший повар обливает кипятком из медного бака засаленные миски и ложки.
— Ложки… ложки… ложки…
Несколько раз я тихо, про себя, повторил это слово.
В маленькой плетеной корзинке у тетки Марьи Афанасьевны лежали завернутые в бумагу полдюжины серебряных ложек. Не раз, вытаскивая их оттуда, тетка говорила:
— Это приданое тебе, Василь. Будешь жениться — подарю тебе на хозяйство ложки.
Почему я не могу взять ложки сейчас,