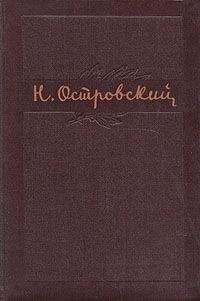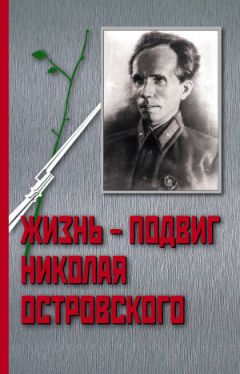Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад.
Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывал интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видал, но по рассказам Таи знал, что Лев — блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себе Павел с первых же минут знакомства.
В сумерки зажглись в комнате три «микро». Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые «морзянки», где-то (видно, близко на море) полосовал пароходный «искровик». В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос:
— Слушайте, слушайте, говорит Москва…
Маленький аппарат ловил на свою антенну шестьдесят станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание.
Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся.
Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева:
«Если у большевика жена — товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса: не надоедят друг другу, и ссориться некогда!»
Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой, теперь же она воспитанница и товарищ по партии.
Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему, и принял это как должное.
Павел получил кружок.
В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости.
В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его.
Радио давало ему то, что отняла слепота, — возможность учиться, и в этом не знающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела, забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь.
Когда луч антенны принес из Магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив.
Представлялась метель — свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи, занесенный пургой, отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди.
А на Днепре вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.
Несколько дней в Москве они жили в кладовой архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику.
Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, — дело чести.
Прошло полтора года с вечера, проведенного Корчагиным в кладовой архива. Восемнадцать месяцев непередаваемых страданий.
В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирургия попытается оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка.
Спросили его согласия, и Павел разрешил делать с собой все, что врачи найдут нужным.
В часы, проведенные на операционных столах, когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевала его своим черным крылом смерть. Но жизнь в Корчагине держалась цепко. Тая находила своего друга после страшных часов ожидания мертвенно-бледным, но живым и, как всегда спокойно-ласковым.
— Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить, и я еще буду жить и бузотерить хотя бы назло арифметическим расчетам ученых эскулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим.
Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни.
Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в лазарете он не может. Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обреченных людей было несравненно труднее, чем переносить свои личные страдания.
На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко:
— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого.
В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату. И Павел покинул лазарет с единственным желанием больше в него не возвращаться.
Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался там, где-то позади.
Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием: она была выбрана членом фабкома. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла.
Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Говорили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов.
Бажанова приметила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала:
— Вижу, пережито немало. Но вы не утеряли все-таки незатухающего энтузиазма. Чего же больше? Это хорошо, что вы решили начать работу, к которой готовились пять лет. Но как же вы будете работать?
Павел успокаивающе улыбнулся:
— Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашел — вырезанные из картона полоски не дадут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательнее вывожу каждую букву, и получается довольно хорошо.
Павел начал работать.
Он задумал написать повесть, посвященную героической дивизии Котовского. Название пришло само собой:
«Рожденные бурей».
С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой, рождались страницы. Он забывал обо всем, находясь во власти образов и впервые переживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, так отчетливо ощущаемые, не удавалось переложить на бумагу и строки выходили бледные, лишенные огня и страсти.
Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятие сына.
В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко:
— Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же это видано, писать без конца…
Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще не совсем «сошел с катушек».
Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденеву о своей потере.
— Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь уж нечего браниться. Начинай сначала.
— Но, Иннокентий Павлович! Украден шестимесячный труд. Это каждый день восемь часов напряжения! Вот где паразиты, будь они трижды прокляты!