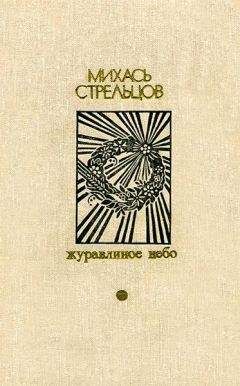Дед завещает Иванке все свое богатство: доброту. Он знает, что без нее не проживешь, но знает и другое: нелегкий это груз, такое наследство, — и дед Михалка, как бы предвидя будущие сомнения внука, его интеллигентские «рефлексии», молится богу, вопрошает его: «Какая тобою положена мера добра?.. Пошли ему испытания по силам. Не сделай так, чтобы надломилась его душа под тяжестью добра, но не сделай и так, чтобы душа его стала черствой. Положи ему ту меру, которую не дал ты мне».
Он за всех, кроме себя, просит бога: за ожесточившуюся, разуверившуюся в людях дочь, чтоб послал ей бог доброго человека, за старуху жену, чтоб пожила еще хоть немного: «не убудет тебя от этого, господи…»
Через двадцать лет вдруг откроется взрослому уже Иванке дедова мудрость, вдруг поймет он, скольким в себе обязан деду. Но капля этой мудрости была заронена в сердце Иванки еще тогда, когда жив был дед. Есть в повести «Один лапоть, один чунь» поразительная по психологической тонкости, по проникновенности в тайное царство души глава — сон Иванки.
…Спит, забравшись на чердак, к теплой трубе, Иванка. Спрятался он ото всех, не хочет, чтобы видели его слезы, расспрашивали его мать и дед: обидел Иванку Тявлик, переросток. Душит злоба Тявлика: фашисты убили отца, спалили хату. И в школе не ладится у него: с малышами сидит. И даже такой несчастный и бедный Иванка колет ему глаза: злится Тявлик и на него, такого — с его точки зрения — благополучного, и на деда Михалку, обучившего малыша счету и грамоте: «очень умными стать хотят». Достается маленькому Иванке от Тявлика, просто житья нет.
И снится Иванке, будто идет он полем, теплым, весенним, с молодой зеленой травкой. И вдруг слышит он шаги за собою — прямо на Иванку шел человек. Это, оказывается, тоже Иванка, только взрослый Иванка. Он и на войне побывал, и в госпитале, и за отца Иванкиного отомстил фашистам. И просит взрослый Иванка у маленького: найди мне обрез, «поганенькое ружьецо какое-нибудь. Я пойду убивать Тявлика. Я там, около леса, уже и яму выкопал. Чуешь, как пахнет земля?»
И внезапно вся скопившаяся на сердце Иванки обида на Тявлика выкипает ужасом. И кричит он во сне своему взрослому «я» — мстителю: «Не хочу! Не хочу!.. Не трогайте его, не надо трогать! Он совсем дурной еще, ничего не понимает. Его не перевели в пятый класс, он потому злится». И почудилось Иванке, что где-то плачет Тявлик, что несет ветер в поле, рвет в клочья этот плач…
Великую основу доброты — терпимость и сострадание чужому несчастию — посеял в детском сердце дед Михалка, и проклюнулось в вещем сне Иванки посеянное зерно…
…Я перечитываю «Один лапоть, один чунь», и по какой-то причудливой ассоциации припоминается мне сказка Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть». Никаким боком, кажется, не соотнести мягкого лирика Михася Стрельцова с язвительным русским сатириком, а вот, поди ж ты — будто прямо к деду Михалке и его внуку обращены слова Салтыкова-Щедрина.
Долго ходила по рукам совесть — и у ростовщика была, и у хапуги-полицейского, и у кабатчика, — и всяк ее хотел побыстрее с рук сбыть: мешала. И взмолилась совесть, обратясь к последнему своему хозяину, какому-то мещанинишке, что «в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться»: «отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори передо мною его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выходит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается».
И мрачный, скептический Щедрин кончает свою сказку словами «наивной» надежды:
«Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».
Именно так верит дед Михалка и вместе с ним автор «Смаления вепря» и повести «Один лапоть, один чунь» в жизненную необходимость и силу человечности.
Традиционная «деревенская» и новаторская «интеллектуальная» струи прозы Стрельцова — не две отдельные мелодии одного автора, а взаимопроникающие, перекликающиеся и переплетающиеся, дополняющие друг друга темы. Пока они, эти две темы, все же чисто физически, что ли, формально отделены, существуют в двух параллельных рядах-произведениях. И сдается мне, что такое положение вещей уже не устраивает самого автора: в повести «Один лапоть, один чунь», в рассказе «Смаление вепря» чувствуется явное стремление Стрельцова к синтезу, стремление соединить в пределах одной вещи и прошлое и настоящее. В этом смысле «Смаление вепря» — произведение экспериментальное, рассказ о рассказе: с одной стороны — раскрытие дверей в «кухню» прозы Михася Стрельцова, а с другой, так мне представляется, — творческий перспективный план будущего большого произведения, к которому идет Михась Стрельцов.
Вяч. ИВАЩЕНКО
Дайте мне, пожалуйста, ручку (англ.).
«Пармская обитель» (франц.).
Брось ты плакать и крушиться
Об участи родной страны!
Не видишь — солнце золотится
Ночами в зеркале луны?
(Перевод Б. Иринина)
Познать радость, испытать наслаждение (бел.).