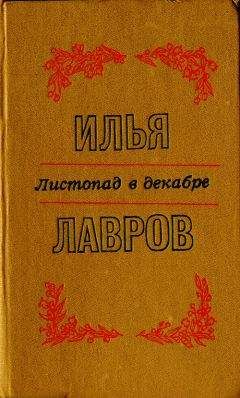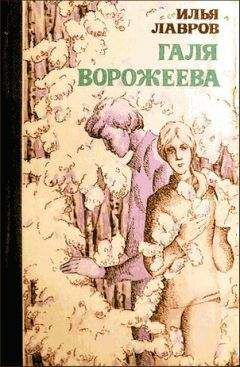Они сели под дым на перевернутую лодку, наполовину засосанную песком. Пламя стелилось по ветру. Огромная, косматая от волн Обь глухо шумела, дышала холодом. На далеком, другом берегу горел рыбачий костер. И Тане казалось, что там, у того костра, хорошо, весело и совсем нет комаров. А здесь было довольно угрюмо. Низко волоклись слегка подпаленные зарей тучи. Другой берег едва угадывался — так широка была Обь. Среди свинцовых волн в розовых бликах мелькал вертлявый остяцкий обласок. Кто в нем плывет? Куда?
И комарье, и неестественно белая ночь, и клубы дыма, и дышащая холодом Обь, и ее огромность, и этот день, проведенный среди развалин семьи, — все это подавило Таню. Ей стало так жутко, что она закрыла лицо ладонями и пробормотала:
— Не хочу, не могу я сейчас…
— Ты о чем? — встревоженно спросил Николай.
— О свадьбе.
Николай помолчал и наконец с досадой согласился:
— Ты права, Танюша, прямо скажем — обстановка хуже некуда. Ну, что же, вернемся домой и там все оформим по-студенчески незаметно, тихо.
— Нет-нет, я вообще не хочу, не могу… Мне это сейчас противно все!
— Дурашка! Чего ты испугалась? Ведь не у всех же так. Не все же разводятся. — Он обнял ее за плечи.
— Знаю, знаю… Всего лишь половина разводится. Кажется, так по статистике?
Николай полез за папиросами, долго не мог их найти; пока закуривал, комары облепили его руки.
— Послушай, но это же детство! — воскликнул он.
— Вот-вот, мне еще рано, я еще зеленая. Все эти сложности, пошлости, мелочность… Начинают с поцелуя, а кончают разделом барахла. Я — не о твоих, а вообще. Не могу я такое принять!
— Ты что, не веришь мне?
— Я вижу, что в жизни случается всякое. Самое неожиданное! Ты и сам не знаешь, что будешь чувствовать и делать через год.
— Ты любишь меня?
— Ты лучше спроси: «Будешь ли ты любить меня через год?»
— Так ты себе не веришь?
— Я завтра же — домой. И не потому, что не люблю, нет. А… Я уж и сама не знаю, как объяснить… Но у меня перед глазами все этот раздел имущества.
— Слушай, чудачка моя милая, это все у тебя минутное. Как налетело, так и улетит. Листок ты мой на ветке, подуло — ты и затрепетала. Мы же любим друг друга.
— Дай мне отдышаться!
Они замолчали. Сидели у костра, точно первобытные люди, — так пустынна была эта река, бегущая среди лесов и непроходимых болот. Мутная Обь хлюпала и бурлила почти у костра. Тяжелые лоснящиеся волны шлепались на берег.
— Пойдем. Здесь невозможно. — Таня вскочила. — А то я закричу!
Николай палкой столкал в реку пылающие головни. Комары и мошки могли свести с ума. Таня хлопала по рукам, по шее, по лицу. Наконец она бросилась от реки и начала карабкаться вверх, на берег…
Со стола все было убрано. У стены появилась кровать. На ней спала Клара Евгеньевна. У другой стены белела застланная раскладушка, наверное, для Николая.
Таня ушла в его комнату и закрылась на крючок. Долго не могла уснуть, взбудораженная всем происшедшим. Да еще было непривычно светло, и гнусно пищали вокруг лица несколько комаров, как-то проникших в комнату. Наконец она закрылась с головой. Но даже сквозь одеяло слышалось комариное зудение. На руках и шее чесались вздувшиеся лепешки от комариных укусов.
Чувствуя себя бесприютной и никчемной здесь, Таня заплакала…
Не заметив как, она уснула. И приснился ей Николай. Он как будто бы шел берегом Оби и все оглядывался на нее. Он уходил в белую ночь, в тайгу, к бледной заре. И Таня знала, что он уходит навсегда.
Она проснулась от боли и тягостной печали, вернее, еще не совсем проснулась, а только поняла, что это сон. Но она продолжала видеть Николая, и у нее пронзительно болело сердце: она любила его, а он уходил берегом все дальше и дальше, и Таня рвалась за ним и плакала.
Вот она всем телом ощутила кровать и поняла, что лицо ее мокро от слез. А Николай исчез, потому что она уже совсем проснулась. Но не исчезли из ее сердца ни горе, ни любовь, и Таня не открывала глаз, чтобы не погасить их, и старалась силой воображения снова вызвать Николая. И она еще некоторое время видела его и белую ночь над Обью…
Но вот все исчезло. Таня вскочила с кровати, быстро оделась и, приоткрыв дверь, позвала Николая. Он поспешно вошел. Таня крепко провела руками по щекам и как можно спокойнее сказала:
— Я уезжаю сегодня… А ты оставайся. Ты сейчас нужен отцу.
— Но, может быть, ты поживешь еще хоть три-четыре дня? — в отчаянии почти закричал Николай.
Она неожиданно уткнулась ему в плечо и тут же схватилась за чемодан.
— Да подожди, Танюша! Нужно узнать, когда приходит теплоход.
Но Таня, боясь встречи и объяснений с родителями Николая, распахнула дверь и быстро вышла из дома. Он выскочил следом, взял у нее чемодан. Она почти бежала, и он едва успевал за ней.
По длинной дощатой лестнице молча спустились к речному вокзалу. Николай, мрачный, ушел брать билет, а Таня села на чемодан под березой и устало огляделась. Она увидела причал, желтый нарядный дебаркадер, суда у странного деревянного берега, а ниже по течению намытые рекой пески, на них синие, зеленые, белые лодки, загорающих мальчишек, плывущий на другую сторону паром с лошадьми и машинами, лодку с собакой на носу… Совсем рядом с Таней возчик таскал на телегу ящики с пустыми бутылками. Вот он вынес из буфета кирпич хлеба и стал кормить работягу лошадь. Она откусывала-отрывала от буханки и, прижмурившись, долго, степенно жевала.
Услыхав мягкий гудок, Таня вскочила. Из-за поворота выплыл лебедино-белый «Патрис Лумумба». Он возвращался домой. Возвращалась и она. Схватив чемодан, Таня побежала вниз, к причалу. Под ее ногами хрустела галька, потом заколыхались сходни с набитыми поперек рейками. Каблучки цеплялись за них. Загудел железный настил дебаркадера. Это догонял ее Николай. И все эти мелочи врезались в память, чтобы потом ожить в воспоминаниях.
— Ну что ты, ну что ты бежишь от меня, как от чумы?! — растерянно проговорил Николай, подавая билет. Он успел прижать ее к себе, поцеловать куда-то в шею. Она вывернулась, по трапу взбежала на палубу. И тут остановилась у леерной сетки, уронила к ногам чемодан и схватилась за поручни, словно боясь, что сейчас кинется обратно к этому страшному деревянному яру, к сходням, ведущим в город.
Она стояла на палубе и смотрела на Николая, а он смотрел на нее с дебаркадера, все заклиная:
— Жди меня, жди, жди!
19691Ковшов был такой грузный, так тяжело и твердо попирал землю, что людям иногда казалось, будто под его ногами земной шар слегка колышется… Еще весной дочь с мужем — ихтиологи — уехали в командировку на Сахалин. И остался Ковшов с внуком. Жена его уже давно умерла. Он очень любил ее и поэтому так и не женился…
Проскучав без дочери месяца два, Ковшов тряхнул скопленными деньжатами и увез внука к Черному морю.
Самолет из Сибири опустился в Адлере. Такси промчало их по узкой полоске земли между морем и лохмато-зелеными горами, вершины которых дымились тучами. Ковшов попросил шофера остановиться в центре Гагры. И сразу же они прямо с чемоданом двинулись к морю…
И вот на берегу появились большущий дед в соломенном мексиканском сомбреро и маленький Максимка, державшийся за его руку. Деду — шестьдесят, мальчонке — шесть лет.
Они замерли, глядя на море. Серые тучи затягивали небо. Дул свежий ветер. Море потемнело, небольшие волны пенились, и издали казалось, что их усеяли белые лебеди.
— Во-он куда оно длиннится! Почему это море такое длинное-длинное? — задумчиво спросил малыш.
Ковшов ласково погладил его взлохмаченную голову.
Всюду на пляжах — люди. Они лежали, бродили, выбирались из моря или бросались в него. Пестрели грибки, зонтики. Ковшов шумно вдохнул влажную морскую свежесть.
— Давай смоем дорожную усталость, — предложил он, снимая с Максима клетчатую рубашонку. Разделся и сам, бросил одежду на чемодан.
— Мы здесь и будем жить? Прямо на берегу? — спросил Максим.
— Что ты, малыш! Вон стоят домики у самого моря. В них и найдем пристанище. Ну, иди — купайся.
Мальчишка с опаской подошел к воде. Море шумело, бросало под ноги невысокие волны, окаймляя берег пенной полосой.
— Иди, иди, — подтолкнул Ковшов, но Максимка попятился от быстрой волны и потянулся на руки к деду.
Тот поднял его, прижал к волосатой груди и загоготал: он не смеялся, а именно гоготал. Чем дальше он заходил в море, тем крепче прижимался к нему малыш.
Дед присел, и волна обдала их, ударила в лица. Максим завопил, задрыгал ногами, захлебнулся соленой водой.
— А ну-ка, познакомься с морем! — грохнул дед. — Полюби-ка его на всю жизнь!
И Ковшов окунул мальчишку, тоненького, трепетного, и тут же высоко поднял над собой. Захлебнувшийся Максим раскрыл рот, выпучил глаза. С него текло. Волосы прилипли ко лбу. Дед опять загоготал, посадил внука на мокрую гальку, а сам, большой и неуклюжий, как слон, ухнулся в воду и поплыл.