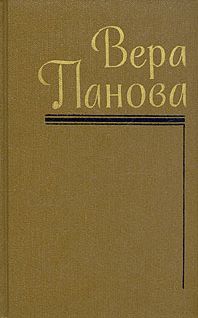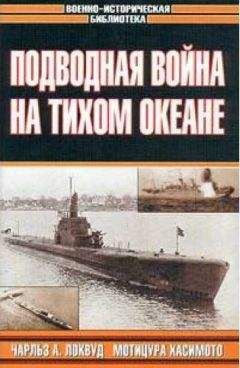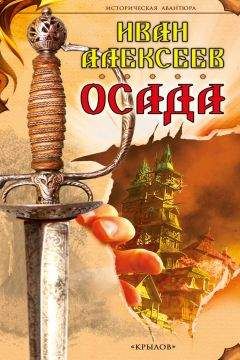Тем временем почти такой же подъем переживала оставленная П. Н. Яковлевым газета "Советский пахарь". Там дела шли отменно плохо, пока не демобилизовался из Красной Армии и не был назначен туда редактором некий Иван Макарьев, крестьянский сын, рязанский мужик, знавший деревню как свои пять пальцев.
Назначенный редактором в газету, на которую никто не хотел подписываться и которую приходилось распространять по сельсоветам чуть ли не в принудительном порядке, он начал с того, что заперся в одной из редакционных комнат и велел принести себе все письма, какие только имелись в редакции. Три дня он сидел и читал эти письма, а когда вышел из своего затвора, то уволил половину сотрудников, месяцами гноивших эти письма без ответа, и взял в штат трех новых работников: агронома, юриста и врача. Отныне к ним стала направляться большая часть крестьянских писем, и Макарьев сам читал их ответы.
Но этого мало, он мобилизовал в свою газету Бориса Олидорта. Олидорт, он же Оленин, был журналист несколько провинциальный, но безусловно способный, этакое бойкое перо, не претендующее на утонченность, но умевшее писать быстро и занимательно.
Макарьев позвал его и сказал:
- Сочините роман с продолжением. Чтоб печатать из номера в номер, чтоб герой был простой хлебороб, желательно наш донской казак, и чтоб читатель помирал от нетерпения, дожидаясь очередного номера.
Олидорт не ударил в грязь лицом, он сочинил роман "Приключения Петра Николаева", в точности такой, какого желал Макарьев. Этот Петр Николаев был донской казак, он сражался против немцев, попал к ним в плен, после множества приключений попал в Африку, а там уже начался такой переплет со львами и крокодилами, что читатели, несомненно, обмирали, ожидая следующего номера, а Олидорт получал столько писем, что в редакции не знали, куда их девать.
Тираж "Советского пахаря" в кратчайшее время достиг неслыханной цифры.
Работала я много, имея штатную должность в редакции "Ленинских внучат" и будучи обязанной не реже раза в неделю давать подвал в "Советский Юг", а кроме того, и из других газет - "Трудового Дона", "Молодого рабочего" мне нет-нет давали какие-нибудь задания, так как считалось, что я пишу хорошо. Так выглядело, думаю, на общем, довольно-таки сером фоне. По-прежнему мне все мечталось о настоящей литературе, но до этого было еще ой как далеко. Написанные мной несколько рассказов, одна повесть и пьеса "Весна" ничего общего с настоящей литературой не имели...
В редакции "Ленинских внучат" у меня со всеми установились отличные отношения. П. Н. Яковлев относился ко мне почти отечески, с Любой Нейман мы очень подружились, деткоры-школьники приносили мне показывать свои стихи и рассказы. (Они тоже все без исключения собирались стать писателями.) С супругами Жак, Веней и Миррочкой, я сдружилась тоже. Из Ленинграда в Ростов приехал Володя Дмитревский, пионерработник, он стал работать в крайбюро юных пионеров и писать статьи для "Ленинских внучат". И с ним я подружилась, характер у меня в то время был компанейский, легкий. А тут еще возник у меня роман с Арсением Старосельским, секретарем редакции "Молодого рабочего".
25 МОЕ ПЕРВОЕ ЗАМУЖЕСТВО. РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ
Весной 1925 года я вышла замуж за Арсения Владимировича Старосельского.
Мы были, по существу, еще совсем детьми, хотя считали себя вполне взрослыми. Мы пускались в самые дерзкие дурачества, некоторые из которых можно было бы назвать более строго - почти хулиганством.
Чего стоила, например, наша отъявленная проделка с отцом Эмки Кранцберга, почтенным учителем.
Когда мы со Старосельским поженились, он повел меня представить своему отцу. Это было в день еврейской пасхи, и вся обстановка этой трапезы, и квартира, и ее хозяин, и дама с черными усиками - все это описано в "Сентиментальном романе", так что повторяться я не буду. Был вкусный обед, пили за наше с Арсением счастье, а после обеда Эмка Кранцберг, бывший с нами, вдруг сказал:
- Ребята, мне это все понравилось. Теперь пошли к моему папке, и я ему тоже представлю Веру как мою жену.
Ни одному из нас, троих взрослых дураков, не пришло в голову, как глупа и неприлична эта затея. И мы прямиком отправились к бедному папе Кранцбергу, и Эмка ему сказал:
- Папочка, поздравь меня, я женился, и вот моя жена Вера.
Старик умилился и поздравил нас и потом напоил чаем в своей холостяцкой комнате, обставленной гораздо интеллигентней, чем квартира старика Старосельского, и только все огорчался, что не может нас ничем "одарить" (он так и произносил это слово) и что ему бы очень хотелось нас "одарить", потому что мы такие молодые и неустроенные.
Он не догадывался, что мы прежде всего были идиоты, а уж потом молодые.
А потом настала расплата. Арсений обожал музыку, и мы с ним ходили на все сколько-нибудь стоящие концерты. И папа Кранцберг оказался обожателем музыки, и тоже ходил на все концерты, и неизменно видел там меня с Арсением. И однажды, не выдержав, подошел к нам и спросил напрямик:
- А где Эмка?
После чего я и сказала Эмке:
- Изволь сказать старику правду, я больше не хочу разыгрывать эту комедию.
Эмка сознался старику во всем, и тот великодушно простил нас и даже что-то такое подарил сыну - "одарил", по его выражению, сказавши при этом: "Ну да, вы еще так молоды, потом это у вас пройдет".
Он был прав: прошло без остатка, даже вспомнить об этом сейчас так странно...
Поженившись, мы со Старосельским поселились в крохотной комнатушке на Среднем проспекте. Чтобы попасть в нее, надо было пройти через общую кухню. Остальные комнаты этой квартиры занимала татарская семья. Вообще все это громадное грязное подворье было заселено татарами. Наш сосед был возчик-ломовик. Вероятно, возчиками были и другие жители подворья, так как двор был заставлен телегами. На телегах лежали цветные подушки и пестрое тряпье, а между телегами - собаки. Впоследствии я пламенно оценила строчку Заболоцкого:
Валялись пышные собаки.
Собаки именно валялись, и они были именно пышные, лучше не скажешь. Я никогда не видела цыганского табора, ни раньше, ни позже, но тогда я считала, что наш двор с его задранными к небу оглоблями и полуголыми детишками, ползающими по цветным подушкам, похож на табор, особенно когда светила луна.
Я боялась собак, они лаяли и бросались на входивших во двор.
У татар было по нескольку жен. Жены ссорились между собой, перебранка слышалась из всех углов. Однажды я видела пробегавшую через двор женщину с исцарапанным, окровавленным лицом. Я очень боялась нашего двора.
Жену соседа звали Катерина Федоровна. Она целый день крутила в кухне мясорубку и потом жарила большие котлеты из конины. У нее были две девочки: Асхаб и Магира, очень красивые, особенно Асхаб, мне казалось, что такою должна быть девочка Дина из толстовского "Кавказского пленника".
Кстати, об этом сочинении. Я люблю его с детства и ставлю несравненно выше "Кавказских пленников" Пушкина и Лермонтова. Мне представляется, что в один прекрасный день старик, рассердясь, сказал: "Мальчишки, что они знают о кавказском пленнике? Я напишу "Кавказского пленника". И написал же!
Замужество за Старосельским очень меня изменило. Даже тогда я замечала в себе эти перемены.
Муж мой немедленно начал меня перевоспитывать в духе материализма и атеизма. Я читала "Капитал", Энгельса, Каутского. "Капитал" давался мне каторжным трудом, поэтому я должна была читать его вслух, а Арсений комментировал и объяснял.
Духовной пищей моей стал главным образом Маяковский.
Арсений его обожал и знал наизусть, он мог читать мне его непрерывно, особенно "150 миллионов". До сих пор не люблю эту поэму, особенно почему-то строчку: "Кальсоны Вильсона не кальсоны - зефир".
Как и Семка Городницкий в "Сентиментальном романе", Арсений сам выработал себе гулкий бас для того, чтобы эффектно читать Маяковского.
Конечно, у Маяковского мне нравилось многое, да и вообще много я от Арсения переняла и полезного, хорошего: он учил меня говорить правильно, отучал от ужасного ростовского жаргона, прививал вкус к современной литературе, к музыке. Он окружил меня людьми более развитыми и интересными, чем те, среди которых я жила до него.
Но иногда я все же взрывалась. Помню, как-то привел Арсений одного своего товарища. Очень располагающий, приятный был человек. Но только, едва придя, он с места принялся читать "150 миллионов". Я вскочила и сказала: "Вы что, дуэтом будете теперь читать? Хватит с меня и одного декламатора". Оба они смутились, даже испугались. Потом шептались за дверью - конечно, обо мне, - а я плакала. Мне было жалко себя и жалко Арсения, что на его долю выпала такая отсталая, несознательная жена, а не Ляля Орлова, которую он любил до меня.
Ляля Орлова была дочерью крупнейшего офтальмолога профессора Орлова. Он был так же знаменит, как позже профессор Филатов в Одессе. В клиническом городке была глазная клиника его имени. Лялю Орлову воспитывали француженки-гувернантки, она была настоящая тонная "барышня", но, подросши, вступила в комсомол, стала носить кожаную куртку, и буденовку с красной звездой, и кобуру с револьвером у пояса. Куртку и буденовку она купила на толкучке, там можно было купить все - от самодельных папирос до именного оружия.