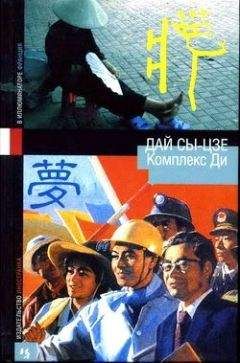— До свидания, — говорю я, когда он надевает широкополую мягкую шляпу и сразу становится похожим на добродушного дедушку. — До свидания!
— Эх, молодось, молодось!..
И он уходит, а я смотрю на часы: рейсовый автобус в шесть тридцать. Красавцев сядет в автобус, сядет наравне с другими, он уже не будет изображать важного чиновника, приехавшего по важному делу, нет, не будет. А сядет рядом с какой-нибудь старухой, задремлет, шляпа его съедет на нос, губа отвиснет, и он уже не вспомнит до завтрашнего утра, до того как переступит порог райкома, не вспомнит ни обо мне, ни о Казанкове. Мысли его будут о доме, о жене, о том, что его ждет ужин, будет думать о детях, о грибах на зиму, о картошке, — как у всех смертных, да, как у всех. Но вот завтра утром он переступит порог райкома с видом важным и строгим, пойдет в кабинетик Леонида Сергеевича, заведующего орготделом, докладывать о выполненном поручении, и увесистые, хлесткие формулировки тридцатилетней, двадцатилетней закалки и обкатки свободно польются с его языка, — о их смысле даже и думать не будет, как не думает, когда говорит о «лебединой песне» и о «факелах», когда читает свою лекцию. И мне вдруг как-то очень стало жалко его, сам не пойму даже, отчего жалко…
Но и мне пора домой.
Однако сегодня Генки дома нет, он уехал в Чебоксары получать какие-то моторы для колхоза, и потому я не спешу. Я даже постоял возле столовой, решая, не поужинать ли здесь. Правда, столовая уже закрылась, но я бы мог постучать в дверь и сказать: «Танечка, не покормишь ли меня?» — и она бы открыла. Да ладно, подумал я, пойду домой, обойдусь чаем. И пошел домой. Я уже не сердился ни на Красавцева, ни на Карликова, который наплел три короба про Генку: бог с ними, эти мелочи неизбежны, только нельзя позволить им увлечь себя, не стоит тратить на них силы. Пусть они кляузничают, сплетничают, если не могут прожить без такой «работы», но они не заставят меня бояться самого себя, трястись от страха, как бы чего не написали, не наговорили…
Было уже темно, но уличные фонари еще не включили, и потому в этом тихом осеннем вечере была какая-то особая прелесть. Полная луна то появлялась на минуту, то закрывалась медленно плывущими облаками, и когда я останавливался и глядел на это тихое неостановимое движение в небе, мне думалось, что и наша жизнь, вся наша общая большая жизнь неостановимо стремится к прекрасной цели, и разница в том, что одни люди это движение чувствуют и видят цель, а других просто несет потоком бытия, хотят они того или нет…
Но вот я открываю калитку и вхожу во двор. Когда Генка дома и свет включен, во дворе светло, полосы света лежат на выбитой индюками земле, а теперь, боясь ступить на какой-нибудь таз или корыто с водой, я осторожно пробирался к крыльцу. Вдруг что-то шевельнулось там, поднялось, выросло — какой-то человек.
— Кто там? — сказал я, и сердце мое забилось часто и гулко, потому что уже догадался, кто там, но боялся еще в это поверить.
— Люся?..
— Где вы были? Я вас жду, жду… — Голос ее дрожал слабо и беспомощно, а в свете луны я увидел на глазах ее слезы. — Я думала, вы не придете…
Я взял ее руки. Они были холодные, маленькие.
Она улыбнулась. Слезы заблестели на щеках.
— Замерзла?
Она ткнулась головой мне в плечо, я обнял ее, и так мы стояли уж не знаю сколько, словно застыв в каком-то счастливом недоумении.
— Как странно, — говорит она и улыбается, — как все удивительно!..
— Что?
— Все, все удивительно!..
Ее волосы лунно светятся, блестит маленький камешек сережки…
— Пойдем, — говорю я, — ты замерзла…
В темных сенях она держится за мою руку, точно боится остаться одна в темноте. Гремит какое-то ведро под ногами, а я никак не могу нашарить дверь в комнату. Но вот наконец-то под руку попадает скоба, и мы входим, в темноте громко стучат ходики, мутный лунный свет пятнами лежит на полу, на тканых половиках. Мне вдруг хочется окликнуть Генку, будто он тут где-то, а не в Чебоксарах.
— Саша, Саша, не живи больше здесь, — дрожащим шепотом говорит Люся.
— Да, да, — соглашаюсь я.
— Ты думал обо мне? Вспоминал?
— Да. — И я хочу ей рассказать о Наде, о том, какое письмо от нее получил, но Люся перебивает меня, она говорит, что все знает, все знает. И еще она говорит, что ничего не могла с собой поделать и вот пришла ко мне, и даже если бы я прогнал ее, она бы не рассердилась, нет, ведь ей просто хотелось поглядеть на меня.
Я снимаю с нее пальто, но она сама нетерпеливым движением сбрасывает его с плеч, и оно падает на пол, и мы опять стоим обнявшись, и я целую ее в глаза, в волосы, в шею, и у меня перехватывает дыхание, я уже не владею собой, — о эти минуты, эти мгновения!.. Весь мир, всю жизнь они превращают в какое-то неземное чудо, рассвечивают эту обычную жизнь всеми цветами радуги, превращают в какой-то праздник, в неистовое торжество, и кажется, что все долгие дни и живешь-то только ради этой редкой минуты любви! Эх, да разве все выразишь тут скудными человеческими словами…
Вот опять я в Хыркасах у мамы.
Скоро зима, и надо поправить завалинку, сменить столб у калитки, подремонтировать заднюю стену двора, а то опять набьет зимними метелями снегу. И как приятно мне работать с топором, тесать доски, ошкуривать бревнышко. И мама стоит неподалеку, смотрит на мою работу, и я чувствую, что на душе у нее тоже сегодня праздник.
Мама…
Ей уже за шестьдесят, и я у нее последний сын, «последыш», и вот теперь единственная реальная надежда и подмога. Два моих брата разлетелись в разные стороны (один — на Урале, другой — на Украине), а я вот остался возле матери. Правда, у меня мало времени помогать ей по хозяйству, но скосить траву на усадьбе, привезти дров на зиму и вот подремонтировать что по мелочам, это уж мое. А она все равно перед людьми хвалится: «Младшенький-то дрова все переколол, уложил, мне теперь что!..»
Она получает пенсию рублей сорок, могла бы сидеть и дома, да вот то и дело тянется на колхозную работу. «Бригадир сам созвал, как же…» — оправдывается она, когда я ей говорю, чтобы сидела дома. Но вот не привыкла жить без работы моя анне.
— Анне, — говорю я время от времени, — продала бы корову-то, тяжело ведь одной-то с ней!
— Что ты такое говоришь-то, Санькка! — испуганно машет она на меня легкой коричневой рукой, точно я собираюсь у нее корову отбирать силой. — Что ты такое мелешь! Чего потом сноха-то скажет? Скажет: «Бедно живут, лентяи, даже корову не могут держать!»
И еще такое у нее оправдание:
— В войну держали скотину, после войны для одних налогов, считай, держали, а теперь чего не держать? Колхоз и соломы дает, а сколько люцерны на усадьбе — три укоса! А куда ее девать? Нет, Санькка, пусть уж будет корова, пока я могу за ней ходить.
Уж это у нас так. В Хыркасах нет дома без скотины, без коровы. Бывали годы, люди перебивались бог знает чем, а уж сена, корма для скотины запасали. Видно, чуваш просто не мыслит себе иной жизни…
Анне, моя анне!.. Отчего так внимательно наблюдает сегодня она за мной? Должно быть, что-то не сходится в ее размышлениях, чем-то нарушен их привычный ход, чем? Должно быть, мой веселый вид не совпадает с Надиным замужеством? Или она думает, что я не знаю об этом замужестве, и теперь выбирает минуту сообщить мне об этом? Эх, анне, моя анне!..
— Ты что-то хочешь мне сказать, мама? — спрашиваю я ее внезапно.
— Нет, Санькка, нет! — испуганно говорит она, — С чего ты взял? Я просто смотрю на тебя, ведь ты так редко бываешь дома…
— А что, есть новости в Хыркасах?
— Новости… — Она смущенно опускает глаза. — Знаешь ли, Санькка, дочь Ивана Николаевича…
— Знаю, анне, она вышла замуж, и сноха уже не скажет, что мы бедно живем, так что продавай корову.
Тонкие запавшие губы ее расползаются в несмелой улыбке, глаза блестят, и она вытирает их ситцевым фартуком.
— Что ты говоришь такое, Санькка…
Но она рада и не может скрыть этой радости.
— И хорошо, Санькка, хорошо. Уж очень она капризная, Надя, и такая гордая… Разговаривает — будто за деньги слова покупает. Я уж и побаиваться начала, что она станет моей невесткой…
— Пусть теперь другие свекрови побаиваются ее, анне… — И я не могу сдержать тяжелого горького вздоха. — Да что теперь говорить об этом!..
Мать с минуту молчит, наблюдая за мной, а я с такой яростью всаживаю гвозди в доски, что весь двор гудит.
— Слышь, Санькка, а вчера они с мужем приезжали сюда на железном коне (так моя анне называет легковые автомобили). Муж такой невидный, росточка маленького, ниже Надьки будет, вот так… — И она показывает рукой. Конечно, она лукавит немножко, я это вижу. — А глазки такие маленькие, как у поросенка, и нос заляпинкой…
— Ну что ж, зато, может, душа у человека большая, ума много…