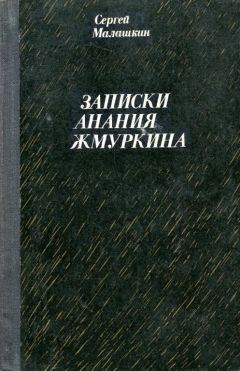— О ком?
— Ну хотя бы обо мне.
— Какой вы эгоист, — сказала она шутливо, с дружеским оттенком. — А обо всех вас — да. Среди всех — и вы, конечно… Вот и приехала, — улыбнулась Смирнова и взглянула на меня и, подумав, спросила: — Ананий Андреевич, чувствуете, какой эгоист ваш сосед?
— И товарищ… Ужасный, — поддержал я сестру.
— Вот видите, — обратилась она к Синюкову, — и Ананий Андреевич считает вас эгоистом. Вы хотите, чтобы я думала и скучала только о вас. Это нехорошо.
— Сестрица, вы не так поняли меня, — смутившись сильно, возразил Синюков.
Анна оборвала его:
— Не волнуйтесь. Вам предстоит счастье видеть царицу. Ваше лицо и глаза должны быть веселыми и выражать верноподданнические чувства, — проговорила она не то строго, не то иронически.
Девушка поднялась, оправила халат и отошла к Пшибышевской.
XX
Время тянулось медленно, казалось, что оно остановилось. Солнце, желтое, величиной с апельсин, плыло над белой крышей противоположного дома. Небо белесое. Темнел ряд труб. Но вот солнце зашло за трубу, и тень легла на крышу дома, на улицу, на окна и скользнула длинными крыльями в окна. Прошло несколько минут, солнце выглянуло из-за трубы, а тень стала удаляться в сторону, а окна посветлели, потом и вся палата заискрилась розоватым светом. Тишина. Мы лежим неподвижно. Ждем. Одни — с волнением и радостью. Другие — спокойно и с раздраженным любопытством. Так мне казалось, глядя на раненых. Я лично ждал с интересом: почему не поглядеть на царицу? Царица не просто баба, которую доступно видеть всем. Царица — мечта, ее можно только видеть в воображении да еще на лубочных картинках и в календаре. Кузнечик не сипел в груди Алексея Ивановича; в его груди пело: хлюп-флю, хлюп-флю, хлюп-флю. Я пристально посмотрел на него и заметил, что друг Семена Федоровича уставился огромными серыми глазами на сестер. Я содрогнулся от его взгляда: в нем был смех. Такой же смех я видел и в глазах Семена Федоровича, когда он диктовал мне свое письмо к Марии, в Москву.
— Идут, — проговорил Прокопочкин.
Сестры бросились к приоткрытой двери, распахнули шире. Мы замерли. Я стал заглядывать в дверь, в соседнюю палату. На пороге показалось несколько женщин и мужчин. Женщины одеты скромно и с большим вкусом. Среди них — главный доктор лазарета Ерофеева, врач нашего этажа Дегтярева, попечительница лазарета Нарышкина, сестры Иваковская и обе Гогельбоген. Два молодых офицера и тучный военный генерал. Офицеры одеты скромно, как-то строго. Генерал сверкал орденами, медалями и золотом погон. У него было толстое лицо, бычья, красная шея. Вошел полковник. У него пышные каштановые усы, матовые щеки и ярко-зеленые глаза. Он звякал шпорами, и их звон, нежный и мягкий, приятно струился в тишине. Сухопарая царица, высокая, с белым лицом дама, тучный генерал и еще две дамы, совсем молоденькие, с корзиночками, подошли к первой койке. В двух шагах от царицы, генерала, высокой дамы, Нарышкиной и дам с корзиночками стояли офицеры и полковник с пышными каштановыми усами и матовым лицом. У дверей палаты толпились сестры, врачи, а впереди них — главный доктор Ерофеева. У Александры Федоровны бледное лицо, сухое. Только над впалыми щеками чуть заметно розовел румянец. Ее голубоватые глаза не грели — светили ровным, холодноватым и печальным светом. Она чуть наклонилась к тяжелораненому, спросила:
— Как, солдатик, чувствуете себя? — и остановила взгляд на неподвижно-восковом лице раненого. Солдат молчал, глядя тусклыми, неподвижными глазами на царицу. — Солдатик, кажется, скончался?
В ее голосе чувствовались страх, тоска и боль.
— Это от великого счастья, ваше императорское величество, — проговорил тучный генерал. — Он увидел свою государыню и умер.
Царица молча посмотрела на него, отвернулась.
У смуглолицей дамы и у молодых офицеров побледнели лица.
— Ваше императорское величество, его только что вчера доставили с фронта, — доложила Ерофеева и пояснила: — У него, ваше императорское величество, ампутированы выше колен обе ноги.
Александра Федоровна перекрестилась.
На ее сухом и бледном лице не дрогнул ни один мускул.
— Бедный, как ему тяжело, — вздохнула она и протянула руку к корзинке, которую держала смуглая высокая дама, взяла пакет с виноградом и крестик, золотой, нательный, с серебряной цепочкой, и все это положила на грудь мертвого солдатика. Потом взяла из корзинки, которую держала другая женщина, Евангелие и его положила на столик… Ей никто из свиты не сказал о том, что мертвому не нужен виноград и Евангелие — он уже не воспользуется подарками на этом свете, не полакомится виноградом и не насладится чтением святого Евангелия. Награждая мертвого солдатика, она уже позабыла о нем, подошла к монашку: — Как, солдатик, чувствуете себя?
— Хорошо, ваше императорское величество, — отчеканил Гавриил и густо покраснел.
На лицах свиты появились удовлетворенные улыбки. Александра Федоровна подарила ему крестик, виноград и Евангелие. Монашек перекрестился, поцеловал крестик и надел его на себя. Царица подошла ко мне, а вместе с нею высокая дама, Нарышкина, тучный генерал, доктор Ерофеева и дамы с корзиночками. Генерал тяжело дышал, было видно по его толстому и багровому лицу, что ему трудно дышать. Он остановился ближе к моему изголовью, будто охранял царицу от стены, чтобы она случайно не обрушилась на нее. От него пахло не то щелоком, не то можжевеловыми каплями. Нехорошо пахло! Много-много глаз остановилось на моем лице, заросшем дремучей русой бородой. Мне казалось, что их глаза запутались в ней и никак не могут выбраться из нее.
— Какой, солдатик, губернии? — отводя глаза от моей бороды, спросила глухим голосом Александра Федоровна.
— Тульской, ваше императорское величество.
— Есть жена и дети?
— В крестьянском деле без жены невозможно, ваше императорское величество, — легко соврал я.
Тонкие, бескровные губы царицы дрогнули в улыбке, она протянула руку к корзине, взяла нательный крестик и, не глядя на меня, положила мне на грудь. Пакет с виноградом — на столик.
— Он у нас, ваше императорское величество, самый веселый в лазарете, — доложила почтительно Ерофеева и сердито, предупреждающе, взглянула на меня.
В ее резком взгляде я прочел: «Жмуркин, молчи».
Я понял ее беспокойство, спохватился и поблагодарил за подарки царицу. Царица не обратила внимания на мои слова, не обернулась, она уже награждала крестиком и виноградом Синюкова. Я немного взволновался, но тут же успокоил себя, подумал: «Ничего, что ответил так смешно и не поблагодарил вовремя за подарки. Лучше поздно, чем никогда».
У Синюкова она не спросила, откуда он, как чувствует себя, дала ему крестик нательный, пакет с виноградом и Евангелие и повернулась к Лухманову:
— Ранены в голову?
— Легко, ваше императорское величество, — отчеканил Игнат, уставившись тяжелым взглядом на ордена генерала.
— Болит? — спросил генерал.
— Болеть не болит, ваше высокопревосходительство, а шумит, будто после здоровой пьянки, — не спуская глаз с орденов генерала, отчеканил громче, с глуповатым выражением на круглом и одутловатом лице, Лухманов. — Война, — обратился к царице, — ваше императорское величество, не похожа на свадьбу, а башка от нее трещит… вот-вот развалится на половинки. Отчего это?
У главного доктора лазарета побелело доброе лицо от его вопроса. У молодого красивого офицера появилась улыбка в уголках губ. Генерал еще больше побагровел, потом стал темно-синим, цвета незрелой ежевики, но смолчал. А когда Александра Федоровна наградила Игната Лухманова подарками и повернула к следующему раненому, генерал бросил свирепый взгляд на Игната Денисовича и шагнул вперед так, что звякнули ордена на его груди. Царица молча, не останавливаясь, наградила крестиками, виноградом и Евангелиями солдат, раненных под Ригой, Первухина и Прокопочкина.
— А вы, — обратилась она к Алексею Ивановичу, — как чувствуете себя? Куда ранены?
— В грудь, ваше императорское величество, — ответила тихо и почтительно за раненого доктор Ерофеева.
— Веруйте в бога, молитесь усердно ему… — и царица взяла крестик и хотела было положить его на грудь Алексея Ивановича, но тут же, заметив на себе дикий взгляд, задержала руку.
— А я тебе, царица, — захрипел Алексей Иванович, — подарю черного петуха. Как приеду домой, матушка, так обязательно черного петуха… — Алексей Иванович, застонав, повернулся спиной к царице.
Александра Федоровна, зажав в руке крестик, выпрямилась и резко повернула к двери. Дамы и сестры поспешно расступились перед нею. Высокая смуглолицая дама, Нарышкина и полковник с пышными каштановыми усами поспешили за нею. Главный доктор Ерофеева, врач Дегтярева, сестры Иваковская, обе Гогельбоген, Смирнова и Пшибышевская окаменели от страха и удивления, стояли с серыми лицами, словно они, как жена Лотова, превратились в соляные столбы. Генерал почернел, покрылся испариной и, вытирая платком пот с лица, цыкнул на главного доктора Ерофееву: