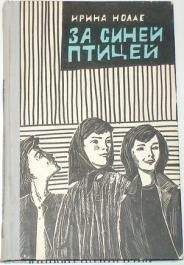— Да, — нерешительно ответила Левицкая, — мне теперь это тоже кажется. А ведь раньше я просто преклонялась перед Тупинцевым…
— Я — тоже, — коротко ответила Гайда и наклонила голову. — С тех пор многое изменилось. — Она вздохнула, — Самое лучшее для Белоненко — это было бы перевестись в другой лагерь, — неожиданно сказала она. — Здесь рано или поздно Тупинцев постарается расправиться с ним. А в средствах он не стесняется…
Галя тревожно взглянула на Гайду:
— Что он может сделать Белоненко? Ведь все это — низкая, грязная клевета! Неужели, кроме Тупинцева, здесь никого нет? Я хотела зайти к секретарю партбюро, поговорить с ним…
— Василий Иванович знает все лучше, чем мы с вами. И дело вовсе не в том, что сейчас Ивану Сидоровичу предъявляют какие-то идиотские обвинения в сожительстве с заключенной. В этом партийный комитет и командование лагеря разберутся. Не так-то уж беспомощен наш начальник Управления, чтобы растеряться и уступить нажиму… Не в этом опасность…
— Тогда я не понимаю…
— Ах, Галя! Как многого вы еще не понимаете! — вздохнула Гайда. — И дай вам бог всегда оставаться такой, какая вы есть сейчас. Вы не обижайтесь на меня, девочка, но я не могу и не должна говорить с вами откровенно до конца… Но я отвлеклась. Прошу вас, передайте Белоненко, чтобы он взвесил все обстоятельства и был бы очень, очень осторожен. Достаточно ему будет совершить какую-нибудь небольшую ошибку — и Тупинцев использует это в своих целях.
— Да что же это такое! — в отчаянии воскликнула Галя. — Что ему нужно от нашего капитана? Дорогу он ему перешел, что ли?
Вдали послышался сиплый гудок паровоза. Гайда встала.
— Вот именно. — Она нагнулась за своим чемоданчиком. — Перешел дорогу. Но неизвестно только, можно ли назвать дорогой ту тропинку, по которой бредет сейчас полковник Тупинцев.
«Ненаглядная моя доченька! Пишу тебе и очень тороплюсь, потому что через полчаса мне надо быть на дежурстве — на целые сутки, а там уже не присядешь… Только сейчас вернулась домой из прокуратуры. Дорогая моя девочка, даже не верю я, что скоро кончится наша разлука, и ты снова будешь со мной. Дело твое уже пересмотрено, мне сказал прокурор, что все хорошо, что тебя освободят, только судимость пока не снимут. Обо всем я тебе потом напишу подробнее, а сейчас только о самом главном. Мне зачитали бумагу о твоем освобождении и дали расписаться, что я ее читала, а постановление пошлют в ваши лагеря, так что, дай бог, через месяц мы будем вместе. Прокурор этот — товарищ Батурин — просто замечательный человек, даже мне подал воду, когда я от радости там расплакалась… Я и сейчас сижу и плачу, сама не знаю почему. Радоваться надо, а я вот плачу… Хотела я к твоему приезду хоть немного отремонтировать нашу комнатку, закоптилось в ней все, только вот не знаю, смогу ли раздобыть краски, чтобы стены освежить. Обоев теперь не достать… Ну, а если не успею, то уж вместе сделаем. Говорила я о тебе с начальником госпиталя, чтобы устроить тебя работать. Он говорит, что с руками и ногами возьмет. Очень нужны у нас люди. А не захочешь в госпиталь, на завод пойдешь, а как война кончится, снова учиться будешь. Заканчиваю письмо, родная моя Мариночка, после дежурства напишу все подробнее. Потерпи еще немножко, все будет хорошо. Передай привет своему начальнику и своей подруге Маше. Ты позови ее к нам, пусть приезжает. Целую тебя, моя родная. Твоя тетя Даша».
Почерк был неровный, торопливый. Чернила в некоторых местах расплылись, и Марина осторожно и нежно погладила пальцами эти следы счастливых слез дорогого ей человека.
Вот и пришло то, что год назад казалось бы Марине величайшим счастьем.
Марина опустила письмо на колени и вдруг почувствовала, что радости нет. То величайшее счастье, о котором с тоской и болью мечтала она еще год назад, теперь уже не казалось ей таким желанным.
«Ведь я буду свободна, свободна… — убеждала себя Марина. — Я смогу уехать отсюда, я буду снова с тетей Дашей, в нашей комнате, среди старых друзей… Никто не назовет меня заключенной, никто не будет распоряжаться моей судьбой… Я буду ходить по Москве и чувствовать, что я такой же человек, как все, кто идет рядом, кто встречается мне… Это же свобода, свобода… Это же счастье…».
Она старалась представить себе это страстно ожидаемое счастье и — не могла. Оно воплощалось в чисто внешние формы, и чего-то самого главного и самого нужного в нем недоставало.
Телефонограмму об освобождении получит Белоненко и вызовет к себе… Он скажет: «Поздравляю вас, Воронова. Вы — свободны…» И пожмет Марине руку… А потом спросит: «Когда вы поедете оформлять документы? Не забудьте приехать потом попрощаться с нами…».
Попрощаться… Марина закрыла глаза… «До свидания, товарищ Белоненко, — скажет она ему. — Спасибо вам за все…» А потом теплушка довезет ее до узловой станции, и там она пересядет в поезд до Москвы. И с каждой минутой будет расти расстояние между ней и колонией. А в колонии все будет так же, как раньше. Утром Толя Рогов даст сигнал «подъем», и воспитанники побегут в столовую, а потом — в цеха… И в колонию пришлют другого культорга, который будет помогать Белоненко в работе…
Ах, боже мой, да что же это такое? Почему Марина не радуется? Почему совсем не думает о комнатке, которую тетя Даша собирается ремонтировать? Почему в памяти ее не возникают лица прежних друзей? «До свидания, товарищ Белоненко…» — скажет она ему.
Марина встала, положив письмо на постель. Окно было открыто, и было видно, как несколько воспитанников возятся у большой круглой клумбы, обкладывая ее кусками дерна. А вон к клубу идет Толя Рогов. Через полчаса начнется репетиция. Ведь до праздников осталось совсем немного, и ребята урывают каждую свободную минуту, чтобы повторить свои номера. Завтра — генеральная репетиция. В костюмах и при полном освещении. Сколько трудов, сколько сил было вложено в подготовку концерта! А через месяц Марина будет далеко от всех этих дел и забот… Нет, как же так? Бросить все, когда только еще все начинается? Зачем она поедет в Москву? К тете Даше? Ее можно взять сюда… Разве тут плохо, среди этой чудесной природы? Тетя Даша будет заниматься хозяйством… Можно посадить картошку… При чем здесь картошка? Совсем не в этом дело…
— Ты что, бригадир! Не слышишь?.. Три раза тебя окликнула, а ты словно заснула.
Маша стояла под окном в майке и шароварах, заменивших ей излюбленные спортивные брюки, которые совсем развалились. Она уже успела загореть, хотя загар не красил ее, а только портил. На голове ее каким-то чудом держался маленький синий платочек. Маша улыбалась и показывала ровные, чистые зубы.
«Значит, и с Машей придется расстаться?».
— Пошли к начальнику. Будем утверждать производственный план на май. Там уже почти все собрались, а тебя все нет и нет.
«На май… Значит, это будет еще при мне…».
— Я получила письмо…
— Ну?! Давай прочитаю. Что там хорошего? — Маша легко вскочила на подоконник и протянула руку. — А ты чего такая кислая, словно оскомину набила? Или с тетей Дашей что случилось?
— Она пишет, что мое дело пересмотрено…
— Маришка! Что ж ты молчишь?! — Маша соскочила на пол и схватила Марину за талию. — Пересмотрено! Маришка!..
Она поцеловала Марину в одну щеку, потом в другую и завертела ее по комнате в узком пространстве между койками и столиком. Потом схватила письмо и стала читать его сосредоточенно и серьезно, с сознанием важности и значимости его содержания. Прочитав, аккуратно вложила в конверт.
— Счастливая! — вздохнула она. — Через месяц… Нет, Маришка, это будет раньше, гораздо раньше. Тетя Даша не знает, а я знаю. Освобождение не имеют права задерживать. Телефонограмма будет на днях.
— На днях? — почти испуганно повторила Марина, и только сейчас Маша заметила и поняла, что письмо не столько обрадовало Марину, сколько ошеломило ее.
— Ты что такая чудная? — растерянно проговорила она. — Ведь на свободу идешь. Понимаешь — на волю! Может быть, через два дня уже…
— Ах, Маша, я не знаю, что такое со мной! — Марина села на койку и закрыла лицо руками. — Ничего я понять не могу… Знаю, что радость, что счастье это… И тетя Даша там ждет, встречать готовится. Видишь, насчет работы беспокоится… Все это я понимаю… — Она отняла руки от лица. — Мне стыдно, Маша, перед теткой, стыдно и перед собой. Ты радуешься, а я не могу.
Маша напряженно смотрела на подругу, словно стараясь что-то понять, а Марина сбивчиво и торопливо говорила ей о том, что она не представляет себе, как будет жить «на воле», что делать там, как встретится с прежними своими товарищами…
— Я никогда, никогда не смогу позабыть нашу колонию… Мне кажется, что все там будет мне казаться не тем, что я должна делать… Ну, я не умею тебе объяснить, а только никакой у меня радости нет.