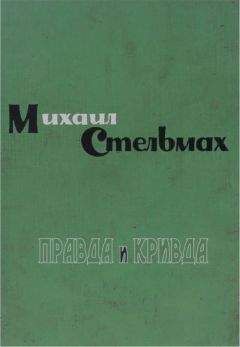— Садитесь, — вздыхая, утомлено махнул отяжелевшей рукой отец Хрисантий.
— Вот и хорошо, у нас так всегда приглашают гостей, — Поцилуйко опустился на стул, локтями уперся в стол, заставленный разными закусками, и подпер ладонями свою богомерзкую морду. — Вы-таки ничегонько подготовились к празднику.
— Может, выпьете вина? — униженно спросил отец Хрисантий.
— Вашего или своего? — невинно спросил Поцилуйко.
— Какого хотите.
— Когда угощают добрые люди, то и выпить следует за их здоровье, — великодушно согласился Поцилуйко. — Можно и вашего попробовать.
Отец Хрисантий встал, достал с полки вторую рюмку, налил в нее вина и дрожащей рукой подал Поцилуйко.
— Прошу, не побрезговать.
— А вы же, отче?
— И я тоже, — он выпил напиток, как яд, и уже затуманенным взором посмотрел на страшного гостя, ожидая от него нового удара.
Поцилуйко долго и тщательно закусывал, приговаривал какие-то шутовские прибаутки о блюдах, а сам с приятностью ощущал, как перед ним выходит из себя хозяин обиталища. «Теперь из него можно и свечи катать, а то, вишь, как сначала драл нос. Поп, и тот свой гонор имеет. Ну, кажется, укоротил его тебе». После второй рюмки он уже даже с сочувствием спросил отца Хрисантия:
— Чего так погрустнели, батюшка? Я не думаю обижать вас…
— Что же вы хотите от меня?
— Совсем немного, мелочь, и тогда пусть ваше чадо даже в генералы выскакивает — не буду мешать. Мне надо, чтобы вы документально удостоверили, что учитель Григорий Заднепровский водит с вами дружбу… Ну, выпивает по рюмке, ведет разговоры о спасении души, сетует на трудности или власть или что-то такое подобное…
— Однако же это чистая неправда! — поразился и вскрикнул отец Хрисантий.
— А ваш сын правдой добился орденов и чина?
— Он кровью их зарабатывал.
— Но он в анкетах не писал, что имеет поповскую кровь!
— Я не знаю, что он писал в анкетах.
— Не изображайте, отче, из себя святую наивность. Все вы хорошо знаете, не я, а вы учили свое дитя, как ему жить в классовом обществе. Вот и живет оно теперь, как люди, и пусть здравствует кому-то и вам на радость. А чтобы не подмывался корень вашего ребенка, за это вы дадите мне свое авторитетное свидетельство о Григории Заднепровском, потому что он меня режет под корень. Разве же это дорогая цена?
Отец Хрисантий аж руки приложил к сердцу, чтобы отодрать от него хищную птицу страха, но она глубже и глубже впивалась во внутренности и аж переворачивала их.
— Как же я могу такую несправедливость валить на человека?
— Потом отмолите ее. Вам только надо черкнуть несколько слов на белой бумаге, — почти весело сказал Поцилуйко. — По рукам, батюшка?
— Бойтесь бога, в такой большой день требовать доноса.
— Как вы сказали? — нахмурился Поцилуйко. — Вы не хотите счастья своему ребенку?
Но лицо отца Хрисантия стало тверже:
— Идите от меня… Сегодня ничего не скажу вам…
— А завтра? — не отступал Поцилуйко.
— Я не знаю, доживу ли до завтра.
— Доживете! — пообещал Поцилуйко и многозначительно взглянул на попа. — Тогда, если вы такие деликатные, прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Доброй ночи, — он снова согнулся в три погибели и вышел из жилья.
Когда за ним закрылись двери, отец Хрисантий с невыразимой печалью прошептал то, что пелось только в страстной четверг: «Нечестивый же Иуда не восхоти понимать», — и снова начал руками отдирать от сердца хищную птицу страха.
На одной половине небосклона полнели и разрастались прекрасные по размаху, величию и форме фиалковые тучи. Вот они перегнулись через зенит, отслоились от неба, раскрыв часть его глубины и прихватив с него мраморно-белый венец. Теперь и тучи, и небо над ними, и земля под ними, и последний желто-мглистый просвет с одного края горизонта, и первая молния с другого — все это было похоже на незавершенные полотна гениев о создании мира.
Григорий Стратонович восторженно вбирает в глаза, в душу эти полотна и улыбается от блаженства. Улыбается и Марко Бессмертный, потому что просторно, величественно и хорошо вокруг. И к тому же майский дождь провисает прямо над его полями — на радость, на хлеб.
— Идут два полуголодных чудака и чему-то радуются, — покосился Григорий Стратонович на Марка и засмеялся.
— А почему бы и не радоваться? — бросает веселое лукавство в морщинки под глазами и в подковку усов. — Пахоту заканчиваем, все всходит и растет, как Дунай, дожди идут, будто по заказу, у людей увеличилось радости, и, снова же, лес достали. А вот чего тебе радоваться — не знаю.
— Чего? — Григорий Стратонович поднял голову вверх. — Небо какое! Божественное!
— Божественное.
— Гремит на зеленое дерево?
— На зеленое, на урожай.
— И школа растет, и записки понемногу пишутся, и ко всему этому я уже дал сегодня пояснение корреспонденту областной газеты.
— О чем? — сразу скривился Марк. — То самое крутится?
— Тот же ведьмовский клубок. Новая анонимка пришила на меня о картах в партизанском отряде.
— Ну, а основания были для доноса?
— Были. Поцилуйки всегда так делают, чтобы к зерну правды подбросить горсть грязи… В отряде, действительно, зимними вечерами ребята играли и в дурака, и в очко — денег хватало и советских, и немецких. Мы с комиссаром начали бороться против игры в очко. Кое-кто бросил играть, а наиболее активные картежники начали таиться от нас. Однажды вечером я наскочил на их теплую компанию. Они как раз банк метали и так увлеклись, что не заметили, как я сел у самого банка. Переполошились, повскакивали ребята с мест, а я к ним:
— Садитесь!
Сели они, отводят глаза и от меня, и от банка, где лежит целая груда денег.
— Кто метает банк? — спрашиваю.
— Да… Мы больше не будем… Вот увидите, товарищ командир.
— А чего зарекаться? — заговорщически посмотрел на них. — Давайте и мне карты.
— Товарищ командир, увидите, не будем… — крутятся ребята, будто на горячее сели.
Еле я уговорил их сыграть со мной и сразу же сорвал банк.
— Вот этого не ждал от вас, — удивился Марко.
— Да я и сам не надеялся, — беззаботно ответил Григорий Стратонович. — Словом, в тот вечер я обыграл всех своих картежников, набил мешок деньгами и отнес комиссару. А когда к нам прибыл самолет с Большой земли, мы деньги передали в Государственный банк. Хорошо, что у меня расписочка сохранилась, а то таскали бы теперь, что присвоил себе тот чертов банк.
— Когда же мы избавимся от этого отребья, что отравляет жизнь? — возмутился Марко.
— Этого, наверное, никто не скажет. Плывут разные доносы, анонимки во всякие места, и каждый дает им ход, думая, что становится на защиту правды. Так и сходятся правда и кривда. Человек терпит, мучится, а доносчику что? Не выгорело в одном месте — строчит в другое. За доносы у нас не наказывают, доносчик чувствует себя почти неприкосновенным лицом — персоной грата.
И тут ударил гром.
— И на их головы придет гром! — сказал Марко. — Это страшная, но временная зараза.
— И я так думаю.
С вьющейся дороги к ним охлябь[46] подъехал Демьян Самойленко, бригадир первой бригады, грозный с виду мужичонка с такими темными румянцами, какие осенью бывают на листьях груш. Списанный по чистой танкист, который жег, гладил и таранил врага и сам горел, как факел, он уже вовеки пронесет грозу в своих больших артистичных глазах. И даже теперь, когда в них отображался человек, над ним тоже полыхали отблески далеких битв и пожаров.
Демьян соскакивает с коня и строго отдает честь обрубком руки.
— Марко Трофимович, уже и просо в земле! Теперь, можно сказать, выскочили на сухое: пахоту под оврагом закончили!
— Спасибо, Демьян, — положил обе руки на плечо бригадиру.
— Аж не верится, — радостно вздохнул бригадир. — Что дальше делать?
— Тракторами поднимать пар, глубина пахоты: двадцать семь — двадцать восемь сантиметров.
— Для чего так глубоко?
— Сам подумай: прошлый и этот год были щедрыми на дожди, значит, надо ждать, что следующий принесет засуху. У нас оно почти всегда крутится так: на два влажных года третий приходится сухой. Итак, загодя надо готовиться к битве с ним, не прогадаем.
— Будут трактористы бунтовать.
— А мы с ними по-доброму должны поговорить и договориться. Коней сегодня же пустить на подножный корм, а завтра — пахать людям огороды.
— Это дело! — Самойленко одобрительно кивнул головой. — Сколько за пахоту брать? Соседи платят по четыре рубля за сотку.
— Упустим рубль. Старикам и сиротам пахать бесплатно.
— А когда кто не выполняет нормы?
— Тем пока что не пахать.
— А Безбородько?
— Безбородько? Пусть он попробует доносами пахать.