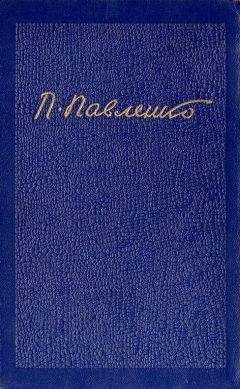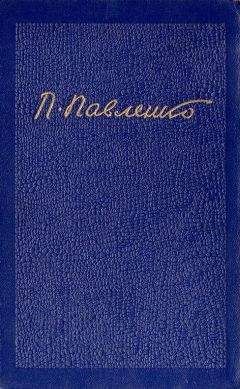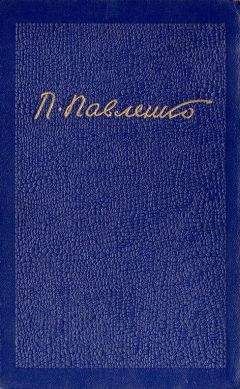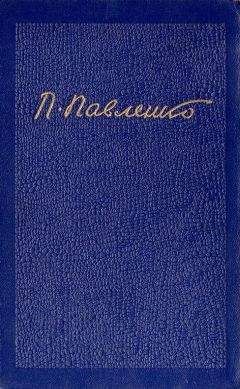Голуб полз и резал, полз и резал, пока не очутился возле истекавшего кровью летчика.
— Помоги, родной, помоги! — прохрипел тот.
Но Голуб не задержался возле него. Все самое трудное было позади. Приказа не существовало, приказ вошел в кровь, он стал отвагой, жаждущей полного торжества. И Голуб сделал еще несколько шагов, чтобы коснуться убитого летчика. Пули обсевали его со всех сторон. Он крикнул саперу Агееву:
— Не могу работать с убитым! Ползем назад! — и повернул к раненому.
Если бы хоть один человек из тех, кто прикрывал Голуба и Агеева своим огнем, лишь на одно короткое мгновение потерял веру в успех, все провалилось бы.
Схватка шла так, словно была заранее сыграна, каждый угадывал смысл своего следующего выстрела, еще не сделав его. Командовать было некогда.
Это была музыка, где звук ложится к звуку и краска к краске. И когда Голуб застрял с летчиком в узком проволочном проходе, пулеметчики, снайперы и минометчики сразу же прикрыли его таким точным огнем, что дали лишних четыре минуты на возню с проволокой.
А затем все было сразу кончено.
Отдуваясь, сдирая с брюк и гимнастерки шишки репея, чему-то смеясь, Голуб пошел докладывать о выполнении задачи ротному командиру, который, впрочем, все видел сам и уже успел позвонить в штаб дивизии.
Пулеметы смолкли. Укрылись в своих норах снайперы. В воздухе, как эхо боя, несколько секунд еще реяло «ура», но и оно затихло.
Медово-сонный зной, звеня, еще стал как-то гуще, плотнее, дремотнее и необозримее.
Командир роты сел за представление к награде, а Голуб прилег до темноты.
Но он заснул не сразу. Возбуждение спадало медленно. Мускулы, точно подразделения, рассредоточено расходились на покой. Голуб хорошо знал это блаженное состояние после удачного дела и наслаждался им.
— Удачливый, чорт! — услышал он о себе и улыбнулся.
Умей он говорить, он ответил бы:
— Удача? Может быть. Но удача не в том, что я полез под огонь и вышел целым. Удача в другом. Надо, чтобы приказ зазвучал в тебе, как свое желание, чтобы ты исполнил его не как придется, а пережил всем сердцем, чтобы он только легонько толкнул тебя, а там и пошло от себя, свое, на полный газ, без стеснения. Удача — уметь вобрать в себя приказ, как желание боя. И она есть у меня. Тогда многое удается. Это закон.
1942
Если, предварительно заглянув в карту, разыскивать батарею, называя мыс, на гребне которого она утвердилась, никогда не разыскать знаменитой батареи. Надо спрашивать прямо: «Где Зубков?»
Тогда нам так же прямо ответят, что он там-то, и заодно уж обстоятельно объяснят, где нужно свернуть с шоссе в гору по едва заметной тропе.
Никакого разоблачения военной тайны тут, между прочим, не произойдет, потому что немцы не только знали расположение батареи, но и видели ее в течение многих месяцев и бомбили так, что в эти часы на добрых пять километров вокруг прекращалось всякое движение.
Было бы неправильно сделать на этом основании вывод, что хозяйство старшего лейтенанта Зубкова плохо замаскировано. Помнится время, когда сам Зубков не сразу мог найти орудия, так как они были замечательно укрыты в густом хвойном лесу.
Тогда высокий мыс, заросший густым лесом, казался девственно-нетронутою горою и батарея была отлично скрыта от постороннего взгляда. Над бетонными двориками, посреди которых стояли пушки, над блиндажами команд и погребами для боеприпасов заботливо склонялись деревья.
Чтобы пройти от пушки к пушке и не сбиться с тропы, приходилось делать засечки, ставить приметные знаки. Густой лес казался самой надежной защитой от неприятельского огня. Было уютно, тихо, как в лесном поселке.
Но вот немцы появились невдалеке на высотах, и Зубков дал по ним свой первый залп. Это произошло 22 августа 1942 года. В тот день краснофлотцы батареи, в большинстве своем пришедшие из запаса, начали одну из блестящих страниц истории борьбы за Черноморское побережье Кавказа.
Батарея Зубкова — дитя севастопольской славы. Недаром входит она в дивизион севастопольского героя Матюшенко. Ее первые выстрелы по немцам сразу же показали, что дух Севастополя никогда не будет сломлен в черноморском моряке, школа севастопольской доблести всегда найдет талантливых учеников.
Густой лес вокруг батареи быстро превращался в кряжистый кустарник, пушки теперь уже не прятались под гостеприимной тенью, а заметно возвышались над невысоким, хотя еще и густым кустарником. Скоро, однако, исчезла и гущина. Холм стал быстро обнажаться, приоткрывать свои каменные кости, и в декабре 1942 года исчезло, наконец, все, что было характерно для местности еще в конце лета.
Не было уже ни леса, ни старых тропинок, ни тишины; был холм, развороченный тяжелыми снарядами, в воронках, рытвинах, пнях, со следами прежних, теперь уже осыпавшихся или раздробленных тропинок и пунктиром новых, еще не нахоженных, но тоже разбитых и засыпанных. Истерзанные деревья с переломанными, расщепленными, срезанными стволами и обгоревшими кронами редкими группами торчали по склону.
Пушки со своими двориками, хотя и прикрытые зеленью сверху, стали теперь самыми заметными точками на холме.
Очередь дошла, наконец, и до пушек. В январе их стволы покрылись ссадинами до сурика, — казалось, что они кровоточат; щиты — во вмятинах, разрывах; дворики — точно надкусаны, в трещинах, с отбитыми бетонными бортами.
Однажды после бомбардировки не нашли ни рукомойника перед командным пунктом, ни кипариса, к которому рукомойник был прикреплен.
Батарея Зубкова приняла на себя пять тысяч немецких снарядов и авиабомб, послав немцам в то же самое время несколько тысяч своих снарядов.
В истории борьбы на этом участке фронта, борьбы ожесточенной, изобилующей сотнями драматических эпизодов, борьбы, характерной тем, что немцы так и не продвинулись здесь, — батарея Зубкова займет почетнейшее место. Это был маленький Малахов курган по живучести и упорству, ни на минуту не прекративший огня и ни разу не помысливший о перекочевке, потому что, как ни терзали его немцы, он терзал их гораздо сильнее.
Против «горы Зубкова» немцы поставили несколько своих батарей, так сказать, «прикрепили» их к Зубкову. Стоило краснофлотцу пробежать по открытому месту, — а кроме открытых мест почти ничего не осталось, — как на батарею уже летел 210-миллиметровый снаряд. Люди батареи с удивлением вспоминают, что они пережили дни, когда батарея принимала на себя до двухсот пятидесяти немецких снарядов. В те дни передышка от грохота и опасности продолжалась лишь каких-нибудь три-четыре часа, и тогда артиллеристы падали и засыпали.
Однажды орудие младшего сержанта Зинченко получило три прямых попадания. Снарядами разворотило бетонный дворик, пробило щит, снесло прицел. Орудие продолжало работать. Стреляя прямой наводкой, его расчет еще совсем недавно подбил два неприятельских танка.
В другой раз прямым попаданием 210-миллиметрового снаряда разбило кожух у орудия младшего сержанта Репина. Орудие было умерщвлено, хотя приборы его были целы.
Шли самые горячие дни, орудию нельзя было бездействовать. Позвонили в артиллерийскую мастерскую старшему техник-лейтенанту Шульге. Его крохотная мастерская — любопытное учреждение. Тут подобрался народ отчаянный, изобретательный, умеющий воскрешать пушки по третьему, по четвертому разу. Шульга вызвал мастера Гавришко.
— Где тревога, туда и дорога. Едем!
К утру пушка работала. Но в расчете ее недоставало одного номера. Гавришко стал к орудию.
— Проверим, как починили.
С тех пор орудие дало уже достаточно много выстрелов.
…Батарея то обрабатывала побережье, то окаймляла своим огнем пехоту немцев, то подавляла вражеские батареи и дзоты, то, наконец, отбивалась сама от воздушных нападений. За день она сбила два «юнкерса». Последние остатки леса валялись изрубленными в валежник, точно какой гигант заготовил на холме мыса огромный костер. Оставалось только зажечь его. К счастью, пожара удалось избежать, хотя лес кое-где и загорался.
Когда нам посчастливилось побывать на знаменитой батарее, бои неподалеку от нее переросли в сложное сражение. Взрывы один за другим поднимались на высотах, занятых немцами, и вокруг высот. А день был солнечно голубой, и море играло синевой, как в те дни, когда оно было вполне мирным морем.
Девятка «юнкерсов» показалась на небе, держа курс на Зубкова. Белые, очень стойкие, долго не тающие облачка зенитных снарядов тотчас появились на боевом курсе «юнкерсов». Те свернули в сторону от батареи. Однако на шоссе близ мыса никто не задерживался — ни пеший, ни конный. Словно у дороги виднелась надпись, как на перевалах: «Обвал! Опасно! Не задерживайся». И действительно, бомбовый обвал мог произойти в любую минуту.