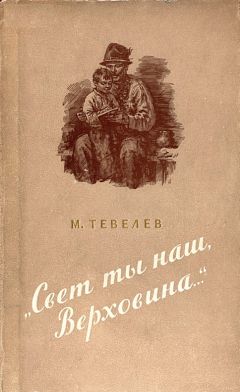Люди торопились, были веселы, и даже Калинка, огорченная тем, что Семен ее не взял с нами, повеселела.
Встречать стадо высыпало все село. По обочинам улицы в клубах поднятой гуртом пыли шли женщины, воинственно кричали хлопчики, размахивая хворостинами, мужчины окружили Олену и пастухов, рассказывая о последних событиях, о том, как через Студеницу уже прошли со стороны Воловца части Советской Армии, как их встречали в селе.
Остановилось стадо на майданчике перед корчмой. Корчма была закрыта, и Попша следил за происходившим на площади, притаившись за оконной занавеской.
— А Матлаха-то нема, — говорили люди Олене, узнав, что Рущак поставил ее за старшого.
— Куда он девался?
— Должно, сбежал.
— Люди с Потоков приходили, сказывают, видели его в Голубином.
— И в Сваляве его видели.
— Мечется из села в село. Он же там, на низине, скот свой поджидал, чтобы его за Тиссу угнать.
— Олена, — спросил Федор Скрипка, — а что со скотом делать?
— Передохнуть мало и на ферму гнать, — отвечала Олена. — А там будем Семена дожидаться.
Вдруг в толпе началось какое-то движение. Послышались восклицания, дробный перестук колес, и на площадь выкатила запряженная парой бричка, в которой сидел Матлах.
Несколько дней Матлах метался по низине из села в село, ночуя у знакомых богатых хозяев, и не решался уехать домой в Студеницу. Неудачи преследовали его одна за другой. Рухнула надежда встретить в Студенице хлебом-солью американских солдат, как встречал он в свое время хортиевцев. Матлах негодовал, клял на чем свет стоит американцев.
— Зажирели, сучьи дети! У каждой корчмы останавливаются! Я безногий, и то быстрее дошел бы, а они время упустили, время упустили… — И вдруг, успокоившись, сказал себе: — Они не пришли, так мы до них пойдем и скот погоним. Погоним хоть через всю Европу, до того места, где они будут!
— Нянё, — пытался возразить Андрей, — но война кончится, и они домой уйдут. Что тогда? Может, в тех местах для нас хуже придется?
— Мне везде будет хорошо, — мотнул головой Матлах. — С моими грошами я и там не пропаду. Там гроши — всё.
И он стал спешно готовиться к угону скота. Но скот на верецковской ферме захватили батраки. Оставалась надежда, что удастся угнать стадо из Студеницы, но Андрей вернулся с вестью, что ферма пуста, а стадо пастухи укрывают где-то в горах.
Матлахом овладел приступ бессильной ярости. Он рвался из рук сына, пытался встать на парализованные ноги, упал и начал кататься по полу в доме знакомого маклера, проклиная и грозя, одновременно взывая в к богу и к дьяволу. С большим трудом маклер и Андрей погрузили его на бричку.
Матлах приказал везти себя в военную комендатуру, требуя жандармов, солдат, чтобы отнять у батраков свой скот. Но коменданту было не до Матлаха, он и слушать его не стал. Тогда Матлах начал приставать к офицерам отступающих немецких частей, суля им за помощь большие деньги. Те посылали его к черту, срывая свою злобу на взбесившемся парализованном старике.
Андрей, дрожа от страха, уговаривал отца уехать куда-нибудь и переждать трудное время. Но Матлах не соглашался. Он прирос к своему богатству и не мог примириться с мыслью, что навсегда лишается его. Это не укладывалось в его сознании. Он решил возвратиться домой.
И вот по дороге в Студеницу от встречных людей он узнал, что стадо пригнали с гор и оно сейчас в селе, на майданчике перед корчмой.
Не останавливаясь возле дома, он погнал лошадей прямо на площадь.
Толпа, завидев Матлаха, сгрудилась и смолкла. Его ненавидели, но все еще боялись. Однако Матлах, вглядываясь в лица односельчан, понял, что ненависть их к нему уже сильнее страха, что в пору теперь подумать, не о спасении скота, а о спасении собственной шкуры.
Он глубоко вздохнул и, стянув с головы высокую барашковую шапку, поклонился толпе.
— Добрые люди, прошу послушать меня.
— Послухаем, отчего же не послухать, — прозвучал чей-то старческий рассудительный голос.
Матлах подождал, пока не стихнет шум.
— Я старый человек, — сказал он, когда все смолкло, — старый и хворый, это все знают. И грешен я во многом перед вами, добрые люди. Ну что же, бог прощал, и вы меня простите.
Люди, не ожидавшие такого смиренного тона, насторожились, кто-то из женщин вздохнул и всхлипнул, и только Федор Скрипка громко спросил:
— А в каком монастыре ты, Петре, каяться выучился?
Пронесся шум и смешок, но он сразу оборвался, когда Матлах поднял руку.
— Я скот отдаю, добрые люди, — сказал он. — Вам отдаю скот. — И, отыскав в толпе кого-то, позвал: — Марие!
Толпа зашевелилась, пропуская вдовую Марию Половко, которую Матлах согнал когда-то с земли. Она робко вышла вперед, не сводя глаз со своего бывшего хозяина.
— Марие, — сказал Матлах, — выбирай себе корову и веди ее. Я перед людьми тебе отдаю… Все чуют?
И хотя Мария хорошо поняла, что ей сказал при людях Матлах, она не могла поверить, что вдруг ни с того ни с сего человеку может привалить счастье. Матерь божия, она никогда и мечтать не смела о своей корове!..
А Матлах настойчиво и громко говорил:
— Бери! Я свое отдаю, Марие!
Мария обернулась к людям, ища в их взглядах поддержку, но глаза ее затуманились, и она ничего не могла разглядеть. А голос Матлаха звучал все настойчивей: «Бери!.. Бери!..» Тогда, набравшись храбрости, Мария побежала к стаду.
А Матлах уже выкликал из толпы Федора Скрипку, и жену Семена Рущака, и старого, совсем оглохшего деда Грицана.
— Я свое отдаю, — слышала площадь голос Матлаха. — От чистого сердца.
Уже поплелся к стаду дед Грицан, уже жена Семена Рущака осматривала со всех сторон приглянувшуюся ей бурую корову, когда Олена, все время с ненавистью глядевшая на Матлаха, сделала несколько шагов вперед.
— Не слушайте его! — крикнула Олена. — Скот и без того наш будет. Не треба нам матлаховской доброты!
— А верно! — выскочил вперед Федор Скрипка. — Эй, Петре, не лезь лучше в святые. Чуешь? Не лезь, не пустим!
— Сами разделим! — понеслось из толпы.
— Гэть отсюда!
— Видит бог, что я к вам с открытой душой, — смиренно бормотал Матлах, косясь на окружавшие его разъяренные лица селян, и, видимо опасаясь, как бы дело не обернулось для него худо, поспешно приказал кучеру развернуть коней.
Но не успел кучер натянуть вожжи, как невдалеке послышалось гудение моторов. Ребятишки подняли радостный крик, и вскоре на студеницкой площади появилась голова автоколонны. Впереди ехала открытая легковая машина, а за ней следовали грузовики с солдатами. Это была чехословацкая часть, дравшаяся плечом к плечу с Советской Армией.
Разглядев на едущем в первой машине офицере знакомую по былым годам форму, Матлах приободрился.
— Пане надпоручик, — неистово закричал он, едва не вываливаясь из брички, — остановитесь! Прошу вас, остановитесь!
Машина стала, и выбравшийся из нее немолодой офицер в пенсне подошел к толпе.
А Матлах уже рассыпался в любезностях. Цепляясь то за края брички, то за сидевшего на козлах сына, он говорил о добром старом времени, которое наконец-то вернулось опять; о том, что бог сжалился над измученными неволей людьми, что он, Матлах, счастлив приветствовать в родном краю доблестных чехословацких солдат…
— Помогите, пане надпоручик, — просил он. — Вот глупые люди совсем одурели: захватили мою худобу и не отдают. Что же это такое, пане надпоручик? Як люди хозяйское начнут отнимать, добра ждать нечего. Порядок должен быть!
— Подождите! — прервал Матлаха надпоручик. — Что здесь происходит?
Матлах стал рассказывать сбивчиво, торопливо, с вызовом поглядывая теперь на притихших селян.
— Власть наша повернулась, пусть она и слово твердое скажет. Все в нашем крае знают мой скот. У меня и бумаги есть. — Он стал расстегивать на груди сорочку. — Бумаги у меня вот, вот они!..
Он вытащил кожаный мешочек, который носил теперь вместо бычьего пузыря, и, расшнуровав трясущимися, непослушными пальцами завязку, извлек пачку бумажек. — Вот они, пане надпоручик! — И обернулся к селянам: — А у вас что есть?
Наступила пауза.
— Калинка! — вдруг позвала Олена. — Куме Федор! Марие! Люди! Покажите наши бумаги. Смотрите, пане офицер, чьи вернее: его или наши? — и она первой протянула вперед ладонями кверху свои большие, в мозолях, натруженные руки.
— И на мои, на мои бумаги посмотри! — подступал к Матлаху нахохлившийся Скрипка, тыча ему в лицо свои заскорузлые ладони.
— Пане, — переждав, пока люди немного успокоились, обратился к Матлаху офицер, — в их бумагах нельзя сомневаться, они самые верные, вернее их не бывает. — И улыбнулся Олене.
Почувствовав в чехословацком офицере друга, крестьяне одобрительно зашумели.
— Что ж это такое? — побледнел Матлах. — Пришла власть…