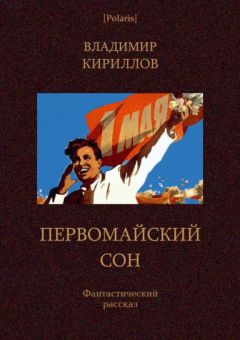— Нет надобности… Знаю. — И добавил голосом, в котором не чувствовалось ни боли, ни жалобы: — Отправляйтесь к своим раненым.
Военврач осталась возле полковника. Батальонный комиссар Лажечников стоял над полковником Костецким с сумрачным лицом и пропускал мимо себя все новые и новые ряды бойцов, которые непрерывно выходили из лесу, возникали из тьмы, как тени, на миг останавливались и ступали на гать, расшатанную непрерывными шагами людей и в нескольких местах уже развороченную бомбами и тяжелыми минами.
Пасеков и Берестовский появились на переправе, когда Костецкого клали на носилки.
— Не задерживаться! Вперед! Вперед! — слышался голос Лажечникова в темноте.
Выстрелы раздавались уже в лесу. Бойцы выходили на гать, другие, не дожидаясь очереди, поднимали над головой винтовки и ступали прямо в трясину, раздвигая болотные кусты и острый камыш.
Берестовский с Пасековым вышли на гать. Впереди колыхались носилки с Костецким, четыре бойца несли их, сбоку шли женщина-военврач и батальонный комиссар.
Гать впереди была разбита. Движение остановилось. Бойцы, стоя по шею в воде, на руках передали носилки с Костецким на другую сторону. Пасеков и Берестовский были среди бойцов. Носилки с полковником проплыли у них над головой, по их плечам перешла военврач. Пасеков вылез из воды и вытащил за собой Берестовского. Мины ложились по всему пространству болота, убитые исчезали под водой, никто не обращал на них внимания.
Самолет затрубил в черном небе прямо над головой, развешал фонари, осветил болото, людей, которые шли через гать, брели по болоту от куста до куста, от кочки до кочки, проваливались, захлебывались, молча гибли или пробивались еще на шаг вперед.
Пасеков сорвал с плеча винтовку и в бессильной ярости выстрелил вверх. Небо бешено завыло и раскололось. Пасеков прыгнул в воду, таща за собой Берестовского. Вода накрыла их с головой. Им удалось снова выкарабкаться на гать. Носилки с полковником стояли над новой пропастью. Полковник лежал спокойно, словно спал, правая рука его свисала с носилок и упиралась скрюченными пальцами в лужицу грязи. Военврач сидела рядом, охватив руками голову. Батальонный комиссар Лажечников притронулся к ее плечу, она покачнулась и упала набок, из сумки выкатились индивидуальные пакеты и беззвучно свалились в воду.
Бойцы подняли носилки, переступили через тело женщины, их поток потащил за собой Лажечникова, Пасекова и Берестовского.
Когда наконец гать кончилась и они ступили на твердую почву, оказалось, что это только большой остров среди болота, а за болотом ждут немцы.
9
Продолжение записок Берестовского
Где выменяла Александровна свое пойло? Из чего оно было приготовлено? Голова моя гудела, как котел, в груди пылал костер. Адское питье из четвертной бутыли, перевязанной по горлышку оранжевой ленточкой, парализовало мое тело, сделало его отвратительно бессильным, отделило от сознания, продолжавшего напряженно работать, перебрасывая зыбкие мостики от прошлого к сегодняшней действительности. Что здесь было сном, что воспоминаниями, не знаю. Мозг работал с безотказной четкостью, хотя, может быть, моим мыслям и не хватало последовательности. То я думал про Аню, представлял себе, как в худеньком пальтеце бежит она по заваленной обледеневшим снегом семипалатинской улице из своего холодного угла в холодный театр на репетицию, то вспоминался мне августовский Сталинград: газетный киоск на углу, возле Дома Красной Армии, и разворот большого сквера, наполненный дымом, оборванными проводами и комьями поднятой взрывами в воздух земли… Женщина перебегала через дорогу, прижимая к груди девочку; она накрыла ребенку голову обеими руками и не видела, не чувствовала, что между пальцами у нее течет темно-вишневая кровь. Небо раскалывалось на тысячи осколков, а она все бежала, задыхаясь от усталости и ужаса; слишком большие туфли на каждом шагу хлопали, открывая босые розовые пятки. Женщина упала на зеленую скамью под седыми от пыли кустами сквера и отклонила от себя ребенка, — я увидел ее безумные глаза…,
Я не заметил, как на сене возле меня очутился Мирных.
— Вы не спите?
Мирных оперся на локоть, выдернул из сена длинный темный стебелек и зажал его тонкими губами.
— Дубковский послал меня к чертовой матери. Он прав. Я испортил ему день рождения.
— Нелепо было затевать этот праздник, — сказал я, неохотно отрываясь от своих воспоминаний. — Это все причуды Пасекова.
— А при чем тут Пасеков? Нужно и самому иметь голову на плечах. Что мне до этого фотолейтенанта и его Люды? История как тысячи подобных. Война все спишет — так, кажется, у нас говорят?
— А может, не спишет, а так глубоко врежет в душу, что потом и не вытравишь ничем? Все легко, все позволено — раз живем. Я насмотрелся на таких гедонистов под пулями. Пасеков тоже скатывается к этой нехитрой философии, вы не считаете?
Мирных пожевал свой стебелек, помолчал и сказал с ощутимым упреком в голосе:
— Вы, кажется, не любите Пасекова? А он прожужжал мне голову вами и вашими стихами… «Есть у меня друг, вам бы с ним познакомиться!» Что-то я но вижу между вами большой дружбы.
— Это как смотреть на дружбу, — начал я неуверенно и остановился на полуслове: Мирных ведь должен знать, что сдружило меня с Пасековым, его упрек справедлив — обычная неблагодарность, обычная подсознательная враждебность спасенного к своему спасителю. Кто куда скатывается? Просто ты, Берестовский, все время чувствуешь себя обязанным Пасекову за то, что он не бросил тебя под плетнем Параскиной хаты, потому и раздражаешься и отыскиваешь в нем разные несуществующие недостатки, чтобы приуменьшить благородство его поступка… Плохи твои дела, Берестовский, если уже и до этого дошло. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — кто это сказал? Кто бы ни сказал, о тебе сказано.
Не знаю, что больше жгло меня — стыд или жажда. Я поднялся, с трудом преодолевая сопротивление собственного тела, которое хотело только одного — лежать неподвижно, врасти в землю, слиться с ней.
— Счастье ваше, Мирных, что вы непьющий, — сказал я небрежно. — У меня все горит в середке. Схожу хлебну водички.
Пить из ведра у колодца- мне не хотелось, может быть потому, что так пил Пасеков, — я вспомнил, как он обливал себе грудь, и невольно вздрогнул, словно это мне за рубаху лилась холодная колодезная вода. У Люды за дверью в сенях стояла небольшая кадочка с водой, там была и кружка… С какой стати я буду пить, как конь, из ведра?
Дверь была открыта, из избы в сени пробивалась тоненькая как паутинка полосочка света. Я переступил порог тихо: не хотел, чтобы Пасеков и Миня услышали и пригласили меня в свою компанию. Нет, я не боялся той большой темной бутыли, которую, прижимая к груди, нес через двор Пасеков от Александровны, я мог бы и адской смолы выпить не поморщившись.
В избе Пасеков что-то весело рассказывал Мине, Минин голос восторженно хмыкал и мурлыкал, в паузах слышалось характерное бульканье, слова процеживались, смешанные с жирным смехом.
— Ну, твое…
— Поехали!
Я зачерпнул кружкой воды и держал ее в руке, встревоженный голосами за дверью, хмыканьем и похохатыванием, в котором мне слышалось что-то враждебное.
— И вот представь себе, Миня, — хохотнул голос Пасекова, — представь себе, Миня… Я уже выздоравливаю, хожу по госпиталю, иногда даже на прогулки… А какие там прогулки? Снег, мороз, ветер — сразу же бежишь в палату! И вот представь себе, Миня… Посмотри, правда, хорошенькая? Ну, вот видишь…
Послышалось мурлыканье Мини, какие-то полуслова, полумеждометия сквозь забитые едой челюсти; я представил себе, как горят похожие на маслины глаза Мини, представил его восторженно-удивленное лицо.
— Ремесленная работа. Что, не было у нее лучшей карточки?
Голос Мини прозвучал отчетливым пренебрежением, мне даже показалось, что я вижу, как он небрежно бросает снимок на стол, — уж кто-кто, а он прекрасно разбирается в таком тонком деле, как фотопортрет.
Пасеков продолжал, словно оправдываясь перед Миней:
— Скука, понимаешь, скука! Вокруг только и слышно: где кто ранен, кто как выходил из окружения, кого наградили, кого обошли… Газеты приходят на десятый день. Из книжек — только «Батый» и «Чингис-хан»! И вдруг собирают нас, выздоравливающих, на концерт. Ты можешь себе представить, Миня? Госпиталь помещался в школе, там была и небольшая сцена — в актовом зале.
Я не мог уже ни выпить воду, ни поставить кружку. Голос Пасекова наполнял меня предчувствием непоправимой беды, космической катастрофы, в которой у меня не было надежды на спасение.
Я никогда никому этого не рассказывал: в минуты наибольшего душевного напряжения память начинает подсказывать мне любимые стихи, их ритм вводит меня в равновесие, дисциплинирует сознание, — стихи спасают меня от необдуманных поступков. Не знаю, бывает ли так еще с кем-нибудь, — может быть, только на меня так действует магическая сила стихов, жалко, если только на меня. Это было. Было в Одессе. Нужно уйти, не слушать этой пьяной болтовни, этого кичливого, самодовольного похохатывания. Все это меня не касается, зачем мне волноваться, словно там, за дверью, решается моя судьба? А если и не моя, могу ли я спокойно слушать отвратительный хохот двух пьяных болванов, рассматривающих фотографию пускай даже неизвестной мне женщины, пускай чужой, но все равно ведь беззащитной под их взглядами? Я не могу, я не должен слушать. Пусть кто хочет слушает, а я войду сейчас в избу и скажу, что о них думаю. Напрасно. Я стоял в сенях и слушал. Приду в четыре, — сказала Мария. Восемь. Девять. Десять. Стихи на этот раз не успокаивали меня, что-то более сильное, более реальное, чем они, становилось рядом со мной, еще не до конца известное, но грозное и неотвратимое, как сама смерть. Не нужно к этому прислушиваться, нужно выпить свою кружку и уйти за сарайчик, на кучу сена, лечь рядом с Викентием Мирных и читать стихи, вслух еще лучше: это, как молитва, разгоняет наваждение. А я одно видел: вы — Джиоконда, которую нужно украсть. И украли. Голоса за дверью не смолкают, из бутыли булькает в жестяные кружки свирепое пойло, которое может свалить с ног быка, слышны вздохи и кряканье, словно там рубят дрова усталые дровосеки, слышен обмен короткими словами, которые могли бы ничего не значить, но полны смысла, как условный код обремененных опытом барышников, торгующих кобылу на ярмарке.