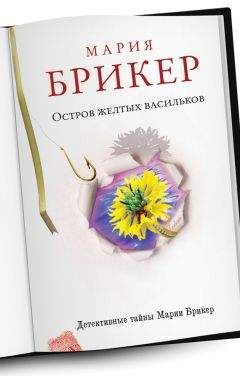— Я просто хотела побыть с тобой.
— Почему?
— Как почему? Мне с тобой хотелось побыть вместе. А как же ты зарабатываешь тридцать рублей? Неужели шесть уроков?
— Ну, три, четыре урока.
— Значит, не выходит тридцать рублей?
— Никогда не выходит. Все-таки, если человек хочет видеть другого, у него есть какие-нибудь причины.
— Причины? Конечно, есть… — Таня лукаво глянула на Алешу. — А как же так, без причины?
— А какие у тебя причины?
— И причины есть, и все есть, — произнесла Таня задумчиво.
Алексей наклонился к ней, заглядывая в лицо. Она подняла глаза:
— Все-таки, как же ты живешь, если не зарабатываешь?
— По-разному живу. Если не хватает, — значит, за квартиру не плачу, живу, живу, пока выгонят, — вот и экономия.
— Или не обедаешь?
— Это самое легкое — не обедать. Обедать вообще редко приходится, больше чай и булка. Но бывает, урок достанешь за обед. Это самое лучшее с экономической стороны, но только обидно как-то. Я не люблю.
— А почему ты у отца не берешь?
— Да у отца нету. Он еще Пономареву должен. Но он иногда присылает. Это… последнее дело — получать от него деньги.
— Ты чересчур гордый, Алеша.
— Нет. Какой же я гордый, если все спрашиваю и спрашиваю: почему ты захотела быть со мной?
— А почему тебе так интересно?
— А как ты думаешь?
— Ты воображаешь, что влюблен в меня, да?
Алеша и на темной улице покраснел и испугался:
— Нет… как ты сказала…
— Значит, ты не воображаешь?
— Я ничего не воображаю.
— Вот и хорошо. А я уже думала, что и ты влюбился.
— Ты что ж так плохо говоришь о любви?
— Чем же плохо?
— Ты никого не любишь? Никого?
— Нет, одного человека люблю, но держу в секрете.
— Почему?
— Я хочу учиться. Если полюбить и сказать, замуж выйти, значит… ну, обыкновенная костромская история.
— Если любишь — вместе хорошо!
— Я боюсь — вместе!
— Почему?
— Я, Алеша, боюсь женской доли. Я буду искать другое. Ты не думай, что я ничего не знаю. Я все знаю.
— И ты удержишься, не скажешь?
— Чего не скажу?
— А вот… тому человеку… про любовь?
— Конечно, не скажу.
— И долго?
— Пока не кончу медицинское отделение. Я потому тебя и спрашиваю все.
— Ага… так поэтому ты меня и просила прийти?
— И поэтому.
— А скажи, разве любимый человек не мог бы помочь тебе учиться?
Таня улыбнулась в темноте, но улыбка слышалась и в голосе:
— Как же он поможет? Он… тоже… очень бедный. А скажи, Алеша, я достану уроки в Петербурге?
— Ты в Петербурге будешь учиться?
— Да.
— Значит, вместе? — Алеша обрадовался, как ребенок.
— Ну, да. В одном городе. — Я тебе помогу найти уроки.
— Спасибо.
— Тот учился или работает?
— Кто?
— Которого ты любишь?
— А потом спросишь, на какую букву начинается его имя? Да?
— Спрошу.
А потом, какая вторая буква?
— Нет, я и по первой догадаюсь. Скажи.
— Да для чего тебе, ты же не влюблен в меня?
— А может, и влюблен…
— Да ведь ты сказал…
— Я ничего не говорил…
— Ты сказал, что ты ничего не воображаешь..
— Можно просто любить, а не воображать.
— Алеша, сколько стоит билет до Петербурга?
— Дорого: восемнадцать рублей.
— Ой, как дорого!
— Таня… неужели ты не скажешь, ты должна по дружбе, по старой дружбе…
— Что сказать?
— Кого ты любишь?
— Алеша, ты все об этом? Мне никого не хочется любить. Ты такой гордый человек, неужели ты не понимаешь: разве можно любить, если тебе на обед не хватает? Это оскорбительно.
Алеша опустил голову, очень многие подробности его студенческой жизни, подробности ежедневных мелких обид, голодной бессильной жизни вдруг пришли в голову. Снова подступил к сердцу невыносимый вопрос, мучивший его все лето: как взять у отца восемнадцать рублей на дорогу? И еще более трудный: как попросить у отца сорок копеек, чтобы отдать Павлуше?
Доктор Петр Павлович Остробородько давно заведовал земской больницей, расположившейся на краю города, но усадьбу купил поближе к центру — широкий многокомнатный дом, окруженный верандами, цветниками, садом. Не только в нашем городе, но и в других городах Петр Павлович считался врачом-чародеем. Петр Павлович добросовестно поддерживал свою медицинскую славу хитрыми рецептами, золотым пенсне и умными разговорами. Честно служила славе и небольшая бородка Петра Павловича, делавшая его похожим на самого Муромцева, председателя Первой Государственной думы. Может быть, и в самом деле Петр Павлович был талантливым врачом, но несомненно, что это был человек общественный и богатый. Богатств его, правда, никто не считал, но никто не жил в нашем городе так широко и красиво.
В доме Остробородько всегда собирался цвет городской молодежи, привлекаемый сюда не столько славой Петра Павловича, сколько гостеприимством и красотой его дочери Нины Петровны. Нина Петровна была уже помолвлена с сыном отца Иосифа — Виктором Троицким, но это обстоятельство почему-то никто всерьез не принимал. Нина была красива: высокая, нежная, медлительная, всегда ласково-задумчивая и приветливо-сдержанная.
Брат ее, Борис Петрович, студент Петербургского технологического института, считался человеком глупым, и этой славе не мешали ни его красота, ни веселый нрав, ни общая симпатия, его окружающая. Еще в реальном училище товарищи считали долгом чести вывозить Борю во время экзаменов, а в технологическом институте прямо с его зачетной книжкой ходили к профессорам и сдавали за Борю зачеты, не столько, впрочем, из чувства дружбы, сколько из мальчишеской любви к студенческим анекдотам.
На веранде Остробородько собралась большая компания. Говорили исключительно о надвигающейся войне. Городской врач, кругленький и остроглазый человек, Василий Васильевич Карнаухов, называемый в городе чаще просто Васюней, ораторствовал воодушевленно:
— Уверяю вас честным словом — демонстрация! Что вы шутите? Франция и Россия! Немцы еще не сошли с ума. Вы думаете, они рискнут из-за Франца-Фердинанда? Мы своей силы не знаем, а немцы знают. Это не девятьсот четвертый год! Великая Россия! Великая Россия, господа!
Борис стоял против группы женщин, обрывал чайную розы и очень ловко бросал ее лепестки в прически дам. Дамы встряхивали головами, улыбались красивому Борису и старались внимательно слушать Васюню. Продолжая игру, Борис говорил:
— Австрийцы что? А вот пруссаки нам зададут, зададут, зададут… После каждого слова Борис бросал новый лепесток.
У барьера веранды стоял и смотрел в сад широкоплечий, лобастый жених Нины — Виктор Осипович Троицкий. Он сомкнул тонкие губы, и было видно, что он одинаково презирает и тех, кто боится немцев, и тех, кто не боится. Белый китель следователя, золотые пуговицы с накладными «зеркальцами», бархатные петлицы, белые красивые руки — все отдавало у Виктора Осиповича мужской серьезностью.
— Виктор, будет война? — крикнул Петр Павлович с другого конца веранды.
— Будет или не будет? Мне твое слово нужно, я этим вертопрахам не верю.
Троицкий обратился к будущему тестю:
— Я не пророк, Петр Павлович, я пока только следователь. — Говорите, следователь, не ломайтесь, — сказала одна из дам.
— В таком случае будет, — ответил Троицкий, круто повернувшись к обществу.
— И победная?
— Надеюсь. Мужики не подведут. Вот… пролетарии…
— Подведут, — закричал Борис и бросил остаток чайной розы к дамским ножкам.
Все засмеялись. Петр Павлович, сидя в качалке, замахал руками на Троицкого:
— Брось, брось! никто не подведет! Да вот же и представитель пролетариата. Алексей Семенович, успокойте, голубчик, старика.
Алексей редко бывал в этом доме, сегодня затащил его Борис на правах однокашника. Алешке всегда казалось, что здесь слишком высокомерно относятся к его бедности. Но иногда и тянуло попасть в этот барский уют, в среду красивых женщин и хороших настроений. Приятно было ощущать близость Нины.
Сегодня Алеше не нравился разговор, и он хотел уйти, но Нина оставила всех остальных гостей, поставила перед ним стакан чаю и печенье, села рядом:
— Уйдете, всю жизнь буду обижаться!
И Алексей сидел и смотрел в стакан, стесняясь своей ситцевой косоворотки. Вопрос Петра Павловича застал его неподготовленным, он покраснел. Борис закричал:
— Пролетариат подумает!
Следователь один не смеялся и строго смотрел на Алешу:
— Интересно!
Алеша сказал:
— Почему вас интересует пролетариат? А командиры?
Троицкий ответил ему, почти не раздвигая сухих холодных губ: