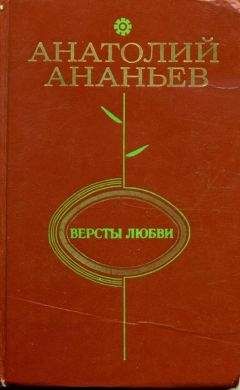— Евгений Иванович! — не подходя, а уже почти подбегая к нему, крикнул я.
— Вы? — спросил он, заметив наконец меня. — Вы еще в Калинковичах? — удивленно продолжил он, держа в руках узлы и не опуская их на серый и казавшийся ему, наверное, пыльным перрон.
— Вот, сегодня уезжаю.
— А я приехал, видите, всей республикой, — сказал Евгений Иванович, полуобернувшись в сторону своей семьи и кивая на них головой. — Петр Кириллович, — представил он сидевшего в коляске седого и лысеющего старого человека; и пока я, подойдя к Петру Кирилловичу, пожимал руку, говоря обычное: «Очень приятно познакомиться» и называя себя, Евгений Иванович молча и выжидательно смотрел на меня, — Зинаида Григорьевна, — затем представляя жену, проговорил он и снова выждал, пока я так же, как с Петром Кирилловичем, знакомился с ней. — Саша. Первоклассник, — добавил он, указывая глазами на сына.
Поезд еще стоял у платформы, пассажиры суетливо метались по перрону; за нашими спинами проводница кому-то громко объясняла, что двенадцатый вагон следует искать не в хвосте, а в голове состава.
— Этим? — спросил Евгений Иванович, теперь лишь движением бровей указывая на зеленые вагоны.
— Нет, — ответил я. — Обратным. На Москву. Через час.
— А-а. Ну, давайте тогда хоть в холодок отойдем, — предложил он и первым, так и не опустив узлы на асфальт, зашагал к широкому навесу перед входными дверями вокзала. Следом двинулся Петр Кириллович на коляске, работая ручными педалями, потом Зинаида Григорьевна, Саша и я.
Ни Евгений Иванович, ни тем более Петр Кириллович и Зинаида Григорьевна ничего, в сущности, не знали о моей жизни, и потому встреча эта, думаю, была неинтересна для них; они шли не оборачиваясь, и лишь маленький Саша, который впервые ехал на поезде и которому было любопытно все, несколько раз, приотставая и крутя круглою остриженною головой, смотрел на меня; я же знал, по крайней мере, многое и многое о жизни и Евгения Ивановича, и катившегося на коляске Петра Кирилловича, и Зинаиды Григорьевны из далекой таежной Москитовки, и потому люди эти вызывали во мне особенную, какую я старался, но не мог скрыть на лице, заинтересованность. «Вот он, отец Раи», — думал я, глядя в спину Петра Кирилловича, и вся прожитая этим человеком жизнь, все испытанные им когда-то чувства на похоронах дочери, да и жизнь и смерть Раи — все-все, весь душевный мир их был понятен мне, я смотрел на руки старика, на пальцы, обхватившие ручные педали коляски, и мне хотелось (так же, наверное, как хотелось когда-то Евгению Ивановичу, когда он забирал Раиного отца к себе в дом) сделать что-то приятное Петру Кирилловичу, будто и я, как и Евгений Иванович, чем-то был виноват перед ним. Я шагал позади и так же, как Петра Кирилловича, видел Зинаиду Григорьевну, которая и в самом деле, как говорил о ней Евгений Иванович, выглядела довольно молодо (я заметил это, еще знакомясь с ней); она казалась стройной и совсем не похожей на ту сибирскую из захолустного таежного поселка женщину в узкой, обхватывающей грудь и руки кофте, как обрисовал ее Евгений Иванович; темно-малиновое платье с отделкою, свободно стекавшее до колен, было сшито со вкусом, шло ей, заметно подчеркивая ее красивую фигуру, и только разве прическа — по-крестьянски заколотые назад волосы — чем-то еще выдавала в ней простую деревенскую женщину. «Тоже пережила, — продолжал я. — Любила одного, потеряла на войне и теперь дорожит этим». Я на мгновение представил, как она в белой ночной рубашке и с распущенными волосами приходила по ночам к спавшему Евгению Ивановичу, добиваясь своего счастья, подолгу стояла у его постели, вся пронизанная лунным оконным светом, и потом шептала молитвы перед старой и тусклой, оставшейся еще от матери, иконкой, и с какой затаенной грустью каждую весну ожидала того дня, когда Евгений Иванович начнет собираться в свои, ненавистные ей, Калинковичи (конечно же, она могла возненавидеть город, приносивший, как она видела, лишь страдания человеку, которого она любила и которому желала счастья; может быть, она ненавидела Калинковичи и теперь, но, может, я ошибался, полагая так, потому что за все минуты, пока я был возле них, я не заметил ни малейшего недовольства или хотя бы раздражения в ее словах и взглядах); я продолжал смотреть на нее и представлять, как она каждое лето приходила вместе с Евгением Ивановичем на дощатый перрон маленькой таежной станции и затем, одинокая, неподвижная, безвольно опустив руки, провожала будто спокойным, но на самом деле полным напряжения и тревоги взглядом уносившийся в таежный сумрак состав, и красный огонек последнего вагона долго еще и потом, когда она ночевала у чужих людей и когда возвращалась на другой день по тропинке в Москитовку, светился перед ее глазами; она, наверное, возненавидела и красный свет, который был для нее светом разлуки. Но она шла теперь, по крайней мере, мне так казалось, спокойною и красивою походкой уверенной в себе женщины, неся одной рукой небольшую с дорожными вещами сумку, другой держа за ручонку продолжавшего оглядываться на меня сына, и мне было приятно видеть эти ее спокойствие и уверенность. «Как все люди, — думал я, опять и опять пробегая глазами по спинам двигавшихся впереди Евгения Ивановича, Зинаиды Григорьевны, Петра Кирилловича, — и никогда в голову не придет, что у каждого из них такая судьба!»
— В гости? — спросил я, как только Евгений Иванович, опустив наконец узлы к ногам и встряхнув уставшие и затекшие руки, повернулся ко мне.
— Совсем, — сказал он. — И вы, между прочим, помогли мне принять это решение.
— Я?!
— Вы. Помните, когда я вам рассказывал о себе в номере? Вы спали, но я ведь не спал в ту ночь, а не ворочался только потому, что не хотел будить вас.
— Нет... — начал было я, желая возразить ему, сказать, что я тоже не спал и тоже не ворочался потому,, что боялся разбудить его, но он не дал ничего высказать мне.
— Вы погодите, — перебил он. — Рассказал я вам, да и сам как бы со стороны посмотрел на свою жизнь, и так, знаете, больно на душе стало: да что же, думаю, происходит? Мария Семеновна старенькая, слепнет, Василий Александрович и вовсе пропадает, так заберу-ка, думаю, всех своих — и сюда. Сколько можно разрываться? Да и мои, — Евгений Иванович опять, как и возле, вагона, чуть повернув голову, глазами указал на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, — в один голос: едем!
Вместе с Евгением Ивановичем и я снова посмотрел на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, который сидел в коляске, развернув ее так, что я видел теперь все его старческое и утомленное с дороги лицо, и, заметив, что они тоже рассматривают меня («Что он говорил им обо мне?» — подумал я), сейчас же, чтобы не молчать, спросил Евгения Ивановича:
— Работу уже подыскали?
— Нет. А что работа? — тут же добавил он. — Необязательно в техникуме преподавать, можно и в школе. Меня вон в Гольцы сколько раз приглашали. Может, поедем туда. В общем, как сложится, посмотрим. Да разве может у нас человек остаться без работы, если он хочет работать, а?
— Да, конечно, — подтвердил я.
С минуту мы стояли молча; Евгений Иванович искоса поглядывал на узлы, что лежали у ног, на Петра Кирилловича и думал, наверное, как ему добираться до Марии Семеновны и как еще встретит их старая женщина, но я был так взволнован неожиданной встречей с ним, что не замечал ни этой его озабоченности, ни того, что разговор не получался.
— Вы — добрый человек, — сказал я Евгению Ивановичу, потому что не мог не сказать того, что думал о нем.
— Нет, — возразил он. — Если хотите знать, я всю жизнь только и делаю, что борюсь в самом себе со злом. Ну, так что? Двинемся? — сказал он, обращаясь к жене и Петру Кирилловичу и добавив уже мне: — Извините, но нам надо идти, — взял поданный Петром Кирилловичем старый брючный ремень и принялся стягивать им узлы; потом, вскинув узлы на плечо — один наперед, на грудь, другой на спину, — протянул мне руку для прощания.
— Может быть, помочь? — предложил я.
— Нет, спасибо. У вас свой.
— А то...
— Да и поезд ваш скоро, так что счастливого вам пути! Н-ну! — затем проговорил он, оглядывая своих и поправляя врезавшийся в плечо ремень. — Нам придется пешком, так что крепитесь. — И первым зашагал к выходу.
Я стоял и смотрел, как они удалялись, слегка смущенный таким поспешным и будто даже холодным прощанием, хотя, в общем-то, иначе и не могло быть, и это я теперь вполне понимаю; Евгению Ивановичу было не до меня, он ни разу не оглянулся, хотя я ждал этого, чтобы помахать ему рукой; я еще прошел к решетчатой ограде, чтобы взглянуть на привокзальную площадь и пересекавших ее Евгения Ивановича, сгорбившегося под тяжестью узлов, Петра Кирилловича на коляске и Зинаиду Григорьевну, которая все так же вела сына за руку, и даже когда они, свернув в улицу, скрылись за, светившейся стеклянной витриной магазина, продолжал смотреть уже на эту витрину; я чувствовал себя так, будто прожил две жизни, свою и Евгения Ивановича, и волновался теперь более не за себя, а за него, хотя — что же было волноваться за него?