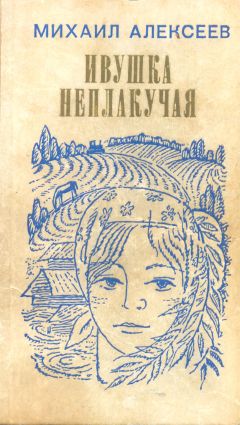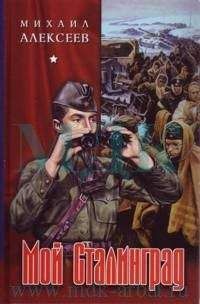— Щука хоть и зубаста, а ног у нее нету: не забе-гет в хлев и не утащит овцу, — сказал в заключение Апрель, видя, что ребята уже затосковали, заглядывают на его часы уже не для того, чтобы полюбоваться ими, а для того, чтобы узнать время. Неожиданно он признался, и, кажется, совершенно искренне: — Да и жалко мне стало уток и зайчишек. Подстрелишь, подойдешь к нему, зайчонку, а он глядит на тебя, сбоку так, еще живым своим большим черным глазом и не понимает, за что же ты его. Бывало, все внутри так и дрогнет, так и ворохнется — убил бы сам себя за этакое злодейство! А рыба что ж, кровь у нее холодная, может, ей и не так уж боль-но — не кричит, когда тащишь из нее крючок, иной раз прямо с потрохами тащишь… Ну, ладно, ребятки, заговорил я. вас совсем. Спасибо за угощение, спасли мою старую дурную голову. Пойду! — сказал последние слова как-то с трудом, ему явно не хотелось расставаться с ребятами. Если сказать честно, не ради выпивки — ради компании он и заявился вчера на свадьбу. Повторил нехотя: — Пойду.
— Куда ж вы, дядя Артем?
— На колхозные огороды, Гриша. Взвалил председатель на мою шею эту мороку. А какой из меня огородник? Правду говорит твоя сестра Феня: на пугало только и сгожусь. А идти надо. Как-никак два трудодня за каж-ный аж день пишут…
И, не досказав, он ушел, высокий, нескладный и так же, как дядя Коля, непонятный для Сереги и Гриши. Они сидели еще какое-то время на прежнем месте, молчали. Гриша не мог избавиться от преследовавшего его видения: умирающий заяц и широко открытый в немом недоумении глупый его, безгрешный глаз.
Потом Гриша энергично тряхнул головой, решительно встал:
— Пойдем, Серега, турнем их.
— Это ты о ком? — не понял Серега.
— Пшику и Тишку.
— За что ты их так? — Серега глядел на товарища о крайним удивлением.
— Вставай, пойдем, — вместо ответа сказал Гриша.
Однако изба Угрюмовых к их приходу уже опросталась — свадьба перекинулась в чей-то другой дом.
Собрав со стола несъеденные пышки, вареные яйца, жареное баранье мясо, сало и хлеб, ребята ушли на станцию.
Вскоре после свадьбы совсем неожиданно пришла повестка: Филиппа Ивановича вызывали в райвоенкомат. Вместе со всеми он подивился повестке, но сделал это ненатурально.
— Переучет, пустяк какой-нибудь, — сказал он, встретив встревоженный взгляд жены.
Она видела, что муж говорит неправду, он знает, с какою целью его вызывают, скорее всего, ждал этого вызова, и страшно обиделась: зачем он обманывает?
— Тебя опять в армию берут? — спросила Феня, глядя прямо ему в лицо и не давая его глазам увернуться от ее пристального и требующего только правды взгляда.
— Что ты, Феня, с чего бы это? Ведь я только что отслужил срочную.
— Но ведь ты говорил мне, что теперь командир запаса…
. — Ну и что с того? Запаса — поняла? Это на случай войны. А сейчас, в мирное время, кому я нужен?
Феня не поверила, и Филипп Иванович видел, что ему не верят, хотел и не мог сказать правду. Он, разумеется, знал, что вызывают его по его же собственному заявлению, размноженному им в четырех экземплярах и отосланному сразу в четыре адреса: в обком, в обл-военкомат, в райком и в райвоенкомат. В заявлении содержалась одна просьба: послать его, танкиста, командира запаса и члена партии, в Испанию — сражаться на стороне республиканцев. Ответа все не было, и Филипп Иванович утратил надежду получить его когда-либо. Потому он тогда со спокойной совестью посватался к Фене. А теперь думал, что не должен был этого делать: выходит, обманул девушку… Он понимал: вызывали его не для того, чтобы объявить об отказе, такое сообщается обычно в письменной форме.
Было совершенно ясно, что в жизни Филиппа Ивановича должно совершиться нечто необычайное. Он это особенно почувствовал после звонка, раздавшегося в сельсовете сейчас же вслед за повесткой. Звонил Федор Федорович Знобин, первый секретарь райкома. Суховатый, обычно немного надтреснутый голос его сейчас был неожиданно звонок и загадочно-торжествен. Секретарь райкома просил Филиппа Ивановича зайти к нему. «Валентин Власович у меня», — добавил он. Валентин Власович — райвоенком. Все, стало быть. Решено, значит. И все-таки Фене он сказал:
— К вечеру буду. Не беспокойся.
Он вернулся даже раньше, через каких-нибудь три с половиной часа, но только затем, чтобы поскорее собраться в дорогу. Глаза Фени были хоть и скорбны, но сухи. Она молча укладывала что-то в его чемодан, тот самый, с которым пришел он из армии и затем объявился в Завидове, чемодан, так и оставшийся только его и не сделавшийся их совместным — в нем еще не успело побывать ничего из Фениных вещей. На душе у Фени был холод, и она не понимала, отчего это так. И лишь когда укладывала гимнастерку, сердце дрогнуло. Обнимая ее на прощание, он сказал как бы шутя и все-таки больше с обидой:
— Ты бы хоть всплакнула чуток, Феня… А? Эх ты, Ивушка моя неплакучая!
— Ишь, чего захотел! — вспыхнула Феня. — Не заслужил, чтобы о тебе слезы лить. Езжай уж! — последние слова она произнесла глухо, с дрожью в голосе.
— Зачем ты так, Феня? Разве я…
— Езжай, езжай! — повторила она еще злее, чуть ли не подталкивая его к двери. Не вышла на улицу, чтобы помахать рукой на прощание, не подошла к окну, чтобы проводить глазами сельсоветскую тележку, увозившую мужа бог знает в какие края. Матери, вернувшейся со двора и что-то недоброе проворчавшей в адрес зятя, с безумной яростью объявила (глаза ее при этом побелели):
— Не гожий уже стал? Быстро ты, мама милая, разлюбила своего зятюшку! Эх ты! Можа, он голову свою сложит, а вы… — Феня чувствовала, что после этих последних ее слов, вырвавшихся непрошено, она уже не сможет остановить своего гнева. — От тебя, а не от меня убежал Филипп Иванович! Ты уж куском начала нас попрекать…
Феня на минуту остановилась, ужаснувшись тому, что она говорила: кто, где, когда попрекал их с Филиппом Ивановичем куском хлеба? Боже мой, что она делает! Вид насмерть перепуганной, несчастной и ничего решительно не понимающей, оглушенной несправедливо жестокими словами матери остановил ее.
— Мам… золотая… родненькая… прости! Убейте меня!.. Мам!
— Что ты, что ты говоришь, опомнись!
Аграфена Ивановна легонько высвободилась из объятий дочери, перекрестила ей лоб, потом встала на колени против образов и принялась молиться, громко упрашивая пресвятую богородицу вразумить дочь, направить ее на путь истинный, ниспослать на нее великое терпение. Закончив моление, подошла к дочери, которая уже лежала на своей кровати, спрятав голову под высокие, не утратившие свадебной свежести подушки. Плечи и спина Фенины вздрагивали. Аграфена Ивановна положила на нее руки и чуть было не отдернула их: тело дочери пылало огнем.
Откуда-то подвернулся Павлик, мать послала его за Фениной подругой — Машей Соловьевой. Когда та пришла, Аграфена Ивановна одними глазами попросила ее посидеть с Феней, успокоить ее.
Вышли они из горницы под вечер, Феня и Маша.
— Пойдем, Маша, в сад, за речку. Посидим там.
— Попоем наши песни. Вот и полегчает. Правда, Фень?
— Пойдем, пойдем.
Они и вправду много пели в тот горький для Фени вечер. К их настроению больше подходили старинные песни и про бедное девичье сердце, горем разбитое, и про бравого, лихого охотника, подстерегшего в полях не дичину, а «распрекрасну дивчину», и про вербу рясну, и про рябину-сиротину, которой выпала судьба век одной гнуться и качаться, потому как не может она прижаться к одинокому дубу, что стоит через дорогу. Врачующая сила песен такова, что вскоре наши певуньи уже смеялись и даже перешли на частушки.
Неподалеку от сада Угрюмовых, за рекою, были луга. Сейчас там докашивалось колхозное сено. Косари один за другим возвращались в село. Некоторые несли мешки, туго пабитые свежей травой, — для своих коров. Косы были перекинуты через плечи. По мокрым ложбинкам изогнутых лезвий скатывались лепестки луговых цветов, всякая зеленая мелочь.
Позднее всех пошли в село Пишка и Тишка. Причиной тому было не их повышенное усердие по части колхозных дел. Просто Пишка задержался, чтобы «сшибить»
для своего двора клинышек, примыкавший прямо к лесу и специально оставленный Пишкою во время общей косьбы. Ну, а Тишка остался с ним так, по привычке, потому что давно сделался вроде Пишкиного верного слуги. Недальняя песня заставила их притормозить шаг, прислушаться. Определив ухом место, где могли находиться девчата, друзья решительно направились к ним. Вскоре песня смолкла. Мужики застали Феню и Машу купающимися. Завидя Пишку и Тишку, те завизжали, поплыли подальше от берега. Собрав их платья, Пишка поманил:
— А ну-ка, бабенки, ко мне!
— Ищо чего! Какие мы тебе бабенки?!
— Ну ты, Машуха, можа, еще девка, а Фенька…