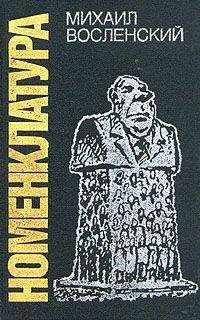— Мне ведь не штамп в паспорте нужен, — сказала она, — ты мне нужен…
Тревожное чувство не покидало ее, мучило подозрение, что Олега к ней привело доброе, но не любящее сердце, жалость. И раньше Лариса замечала, что чувство Олега неровное какое-то: то ярко вспыхнет, то погаснет, будто его и не было. После ссор он возвращался к ней виноватый, раскаявшийся и, словно недовольный этим, вновь становился равнодушным к ней.
Лариса тряхнула головой и взялась за перо: надо работать, надо всегда работать. Где еще найдет она такое радостное, опьяняющее вдохновение, возможность приложить свои почти не тронутые силы! И что еще есть на свете благодарнее, чем необходимый для души непрестанный труд!
Сырые, пахнущие керосином и типографской краской влажные полосы. Газета — это тоже любовь, и тоже на всю жизнь. А главное в ней, в жизни, найти свой труд, пусть тяжелый, но всегда самый нужный для тебя. Если я нашла свой труд, мне не страшны никакие напасти. Труд должен заполнять всю жизнь, а не восемь часов в сутки.
Мысли о газете и об Олеге были неразрывны. Думая о нем, она вспомнила свою первую статью, первое дежурство в типографии, первую опечатку. Олег помог ей стать увереннее, будто передал часть своих сил. Но теперь она была сильнее. Он считал, что Лариса слепо преклоняется перед ним, не видит в нем ни одного недостатка и простит все, лишь бы он остался с ней. Это было его самое досадное заблуждение. Ведь она лучше других знала Олега и — любила. Она считала, что не имеет права отказываться от Олега только потому, что его недостатки могут плохо повлиять на ее жизненное благополучие. Она не могла уйти от него именно потому, что хотела, страстно хотела видеть его сильным, чистым, настоящим. Она шла на этот подвиг веры — так требовала ее натура, ее образ жизни, ее мировоззрение. Лариса строго проверяла каждый свой шаг и не прощала себе ошибок, за которые осудила бы других. Она считала, что журналист должен быть безупречен. Газету должны делать чистые руки, честные души. А любовь учит быть чистым и честным. Значит, она необходима Олегу.
И ничего ее сейчас не волновало, кроме истории с очерком «Таков советский человек». Для Ларисы не было страшнее вины, чем ложь в печатном слове, какой бы эта ложь ни была, большой или маленькой, сознательной или невольной, от желания угодить начальству или написать красиво. Журналисту, который пишет неправду, нельзя доверять и в личной жизни. Сегодня солжешь другу, завтра — читателю, сегодня — читателю, завтра — другу. Тут почти прямая связь.
Поэтому, когда на другой день пришел Олег, ласковый и тихий, Лариса не побоялась спросить:
— А что с твоим очерком?
Он недовольно скривил губы.
— Разве приказа не было? Почему именно сейчас тебе хочется говорить на эту тему? Я думаю о том, как мы будем жить, а ты…
— О том же. От того, как закончится история с очерком, зависит, не удивляйся, наша с тобой жизнь.
Олег помрачнел, отошел от нее и бросил через плечо:
— Шеф обещал строгий выговор с предупреждением.
— Я не о мере наказания.
— А о чем?
Лариса молчала. Она понимала, что сейчас, может быть, и не время говорить об очерке, лучше — потом, но упрямая сила разжала ей губы.
— Зачем ты лжешь мне, Олик? Мне-то зачем лжешь?
Он опустил голову, потер виски руками и ответил глухо:
— Именно перед тобой мне не хотелось выглядеть дураком. Я сорвался первый и последний раз.
Невозможно было не поверить.
Не по своей вине целую неделю Валентин потратил на мелкие поручения. Правда, за это время он съездил в однодневную командировку к молодому каменщику — делегату на третью конференцию сторонников мира. Но корреспонденция получилась сухой, неинтересной, а после правки Копытова превратилась в набор общих фраз. Валентин попросил отправить его в командировку.
Он хорошо сознавал значение этой поездки для своей дальнейшей судьбы в редакции, от поездки зависело многое. Подружиться с коллективом нельзя, пока он не увидит, как ты работаешь.
Ему подсказали несколько тем; он перелистал подшивку «Смены», прочитал все корреспонденции, присланные из района, куда собирался ехать. Их было мало — три информации о молодых животноводах из укрупненного колхоза «Коллективист». В архиве обнаружилось два письма о трудовых успехах слесаря железнодорожных мастерских Василия Архипова.
Сведений было недостаточно, Валентин почитал еще областную партийную и районную газеты, выписал несколько фамилий, цифр и названий колхозов. Он торопился уехать, хотелось поработать, набраться впечатлений, написать что-нибудь очень хорошее.
Каждый раз, выходя из вагона пригородного поезда на незнакомый перрон, Валентин испытывал смутную радость и каждый раз, ступив на землю, пытался определить, чем вызывается это чувство, постепенно переходящее в нетерпение.
Едва поезд затормозил, Валентин спрыгнул с подложки, постоял, оглядываясь, и быстро прошел в кабинет начальника станции через прокуренный зал ожидания.
За столом, освещенным лампой под зеленым, склеенным полосками газетной бумаги абажуром, темнела маленькая фигурка в непомерно большой фуражке.
— Сделаем, — ответил железнодорожник сиплым, простуженным басом, — приходите часа за два, уедете скорым… Вы бы к нам заглянули, товарищ корреспондент. У нас на станции хорошие работники есть. Вот Архипов, например, Василий.
— Знаю.
— Ну? — удивился железнодорожник. — Архипова-то?.. Хотя понятно, корреспонденты все знают.
— Все не все, а кое-что обязаны знать…
Привокзальная площадь была окружена плотным кольцом киосков и забита подводами. Храпели кони, позвякивали сбруей, люди спешили, Валентин сновал между ними, расспрашивал, но в сторону колхоза «Коллективист» никто не ехал. Вскоре площадь опустела, а он успел лишь узнать, что до колхоза десять с лишком верст, что, выйдя на тракт, надо повернуть «крутолево».
Поколебавшись, Валентин двинулся вперед и сразу же пожалел об этом. Кругом была тьма, наполненная снегом и ветром. Стало страшно. Валентин зашагал быстрее, стараясь не думать о том, что дороге конца нет. Ветер плыл навстречу лавиной, пришлось повернуться к нему спиной, чтобы отдышаться. Валентин взглянул вверх, увидел в темном небе неяркие точки звезд и вспомнил Ольгу. Ее лицо: черные глаза, густые прямые брови, упрямо очерченные губы и даже родинка — вспомнились с удивительной отчетливостью. Выражение глаз менялось, а лицо оставалось неподвижным, как на портрете.
Валентин нагнул голову и двинулся вперед. Воспоминания отвлекли его, и страх исчез. Он до мельчайших подробностей вспомнил встречу с Ольгой. Увиделись они неожиданно — на катке.
В тот вечер на ледяных дорожках было мало катающихся и огней было мало. Медленно падал густой снег, из репродуктора доносился грустный старинный вальс.
Было и радостно и тоскливо. Он видел, слышал Ольгу, мог прикоснуться к ней, чтобы убедиться, что не спит, и все-таки она была бесконечно далека. Хотелось взять ее за руки, чтобы она не вырвалась, не убежала, и сказать:
«Смешно подумать, Оля, но я приехал сюда из-за тебя. Потому что люблю».
— Смешно подумать… — начал он, но замолчал; и вдруг ринулся вперед.
Потом в неуютном буфете они пили несладкий холодный чай. Ольга была грустной. Он не мог понять, то ли она просто повзрослела, то ли страдает. Ему хотелось смотреть на нее, не отрываясь, но он не поднимал глаз. В черном трико она казалась немного полной и, может быть, поэтому он все время думал о том, что она уже не девочка, а женщина.
— Живешь и не замечаешь, что время летит, — проговорила Ольга. — А встретишь старого знакомого — и даже не по себе станет… Скучать некогда, а перед сном подумаешь, что опять мало сделала.
Он против своей воли отмечал, что она несчастна, чем-то удручена.
— Вы не замерзли? — тихо спросил он.
— Нет, — ответила она, — у меня теплые носки.
Сейчас, идя сквозь метель, он снова думал о том, что все дороги прямо или окольно ведут к Ольге.
А метель выла сотнями голосов и подголосков. Снежная крупа больно била по лицу, таяла и стекала за воротник. Валентин шел тяжело, медленно. Сознание было поглощено одним: надо идти. Тело тупо ныло от напряжения, а он шел и шел, всякий раз вздрагивая, когда нога, не попав на дорогу, глубоко проваливалась в снег.
Чуть приподняв голову, Валентин увидел на дороге мутный рассеянный свет. Обернулся. К нему приближались сквозь пургу две светящиеся точки.
Машина!
Лишь за несколько метров от себя он различил силуэт кабины и кузова, поднял руку. Машина остановилась.
— До «Коллективиста» подвезете? — крикнул Валентин.
— Всегда пожалуйста, — отозвался приглушенный голос, — какой лешак тя сюда занес?
— Сколько возьмете?
Шофер помедлил с ответом и выпалил: