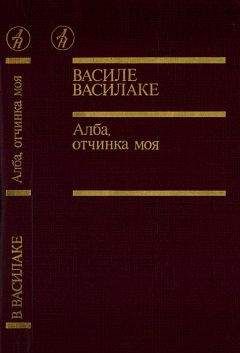— Н-да, — угрюмо буркнул он, — придется ему и обувь сменить, сам этим займусь.
Василий, как и Георгий Лунгу, прошел в пехоте первую мировую, а какой солдат не знает — русскому сапогу износу нет! А если к тому же твоя латаная-перелатаная обувка расползлась, правый вон каши просит… Разве это дело — живому пропадай, а мертвый в обновке?..
Услышав такое, тетя Наталица вздохнула и перекрестилась. Слава богу, потихоньку-полегоньку, неприметно, как бы невзначай, все становится на свои места. Теперь можно быть спокойным — Аргира похоронят, и притом по обряду, как христианина. А старик Бану доволен, и он внакладе не остался — и цуйка, и сапоги… Харон — что надо!
Что до жизни со смертью, то они тоже тихохонько разбрелись по своим углам. А люди, которые прибежали днем на поле, сейчас, должно быть, ворочаются в забытьи на подушках и видят сны…
Расходимся и мы по домам, чтобы улегся наконец этот суматошный день. Тетя Наталица взяла меня за руку:
— Давай зайдем к маме, скажу, будешь у меня спать.
Дом ее пустой, темный… Неужели тетя боится оставаться одна?
В комнате она зажгла лампу, потом лампадку под иконами и села. Прислонилась к стене, сгорбившись, а руки утонули в складках подола:
— Спи, мой маленький…
Только-только я закрыл глаза, как слышу: «Ионикэ, где же ты, сыночек… — И еще громче: — Когда ж это все кончится, господи! Дождусь ли?»
…И уже утро. Тетя так и не легла, все ходила по комнате, то прикручивала фитиль у лампы, то снова прибавляла света и что-то бормотала… Видно, ждала — не постучит ли ее Ионикэ раненый? Или, бог даст, цел и невредим придет… Война войной, а о чем думает мать? Только бы сын жив остался! А эта война… Ей только три дня, и никто не знает, чья возьмет… И все равно, — господи, пусть он вернется к маме своей, в дом, где родился… Однако вспомните, как повторяла в поле слова сына: «Хоть и мертвый, мама, от наших ни за что не отстану!..» Разве не гордилась своим Ионом?
— Кто там? — Она уже в сенях, слышно, как лязгнул засов.
— Лелика, ох… я это! Ой, не знаю, что делать, в примарию зовут, лелика!.. Узнали, видно, что плакала там… в поле…
Голос Анны-Марии дрожит. Это она прибежала, запыхавшись, ни свет ни заря. А голос ее ни с чьим не спутаешь — зовущий и настороженный, чуткий — как ушко лесной косули.
Тетя приводит ее в комнату. Молчит… Потушила подслеповатую лампу — накоптила за ночь.
— Донес на тебя кто-то, точно! — наконец выговаривает она. — Неужели это Бану отмочил?
— О, и что на меня нашло тогда, ума не приложу! Ох-ох-ох… — сетует Анна-Мария.
— Ладно, погоди ныть…
Иначе тетя не может: стоит кому попасть в передрягу, готова грудью защитить.
— Кто за тобой приходил?
— Да вчера несколько раз звали. Искали меня, а я там была… знаете, где я была…
И сейчас вижу я Анну-Марию такой, как была она в то утро: изможденное сухое тело, худое в рябинках лицо, щеку захлестнул черный платок… А тогда не укладывалось в голове: «И она тоже… тоже совсем другая стала!..»
— А примарем опять Горинчоя поставят, что в сороковом был, — лепечет Анна-Мария. — Соседка сказала: все до одного вернулись из-за Прута — и писарь, и старший жандарм… А этот Горинчой — он свояк вам, лелика… Может, сходили бы со мной, замолвили словечко…
— Вот что… — тетя сняла нагар с замигавшей лампадки. — Иди смело и ничего не бойся! А спросят, почему плакала, скажи: «Такая уж уродилась — дура!» И все, этого и держись. Сразу вместе придем — не поверят. А сама говори: «Не могу, дескать, вижу покойника — тут же слезы градом… А вчера, когда везли солдата мертвого, вспомнила мужа своего, Митруцэ… как призвали в армию на службу, так и канул, ни слуху ни духу… Где, бедный, скитается? Может, тоже где-то мертвый лежит! Что ж теперь, и поплакать нельзя?.. — у тети скривилось лицо, как от плача, будто она сама только что мужа потеряла. — Горе мне, ни детей нет, ни мужа… Два года пропадает, куда вы его дели?! О-ох, Митруцэ мой, Митруцэ!.. Верните мне его!..» — И опять, как ни в чем не бывало, наставляет: — Поняла? А в случае чего пусть меня зовут, я им выложу!.. Бестолочи вы, скажу, сцепились по-собачьи друг с другом… научились резать, а как рожать — так нам, бабам?..
И тетю Наталицу не узнать, как подменили. От страха смелости прибавилось? Или от боли душевной? Кто скажет, откуда берется женское притворство? Может, ковыль в утренней росе, тяжелой, как вдовьи слезы? Не он ли твердил: «Жизнь человеческая — былинка»? А как же истина, почему молчит? Или она тоже притворяется?..
— Ну, пойду я…
Но Анна-Мария еще постояла в нерешительности, тихо вздохнула:
— Ох, помоги мне матерь пресвятая богородица-а-а… Поможет ли пресвятая мать?.. «А где же ковыль? — думаю я уже дедом, с Иммануилом Кантом в седой башке. — На кого уповать? На ковыль, на Канта? А на кого еще надеяться, если в себе сил больше не осталось?.. На комья глины у дороги, высохшей после дождя? На эту серую землю? Или на солнце, пока светит?..»
— Иди, иди! — подгоняет Анну-Марию тетя Наталица. — Ступай и не бойся, авось бог еще есть на свете… — И переводит дух: — А то и мне пора, надо свечек прихватить, пойду на кладбище…
На кладбище тихо, только шоркают о землю лопаты: яма для могилы почти готова. Копали ее по очереди: два брата Сынджера, из всей оравы самые сговорчивые, Георгий Лунгу — ну, ему сам бог велел и мама на свет родила, чтоб помогал да выручал, — и Михалаки Капрару… Он, бедняга, так и не очухался после того, как увидел на акации кресло лавочницы Рухлы перед церковью. Старик до утра кружил вокруг сторожки, видно, ночных духов гонял, а на рассвете подхватился и без устали, как заведенный, принялся копать могилу.
Солнце уже поднялось, когда явился Василий Бану с несравненной цуйкой под мышкой. Не здороваясь ни с кем, как заведено на кладбище, заговорил:
— Кто его знает, может, оно и так, может, и этак… Ну, работнички, давайте за упокой его души!.. — Поставил бутылку на краю ямы и от щедрот своих воодушевился — А что сейчас было — умора! Хе-хе… Сидел вчера и думал: «Боже, боже, пути твои неисповедимы, какими чудесами нас пичкаешь!» Мария-то Магдалина евангельская, слыхали? — шлюхой уличной была… А ее в святые определили! Что ж получается? Идем мы в церковь грехи свои замаливать и первым делом ей, грешнице, ноги целуем…
У большого сиреневого куста зияет яма в рост человека… Святая была потаскухой?! Заступы и кирки прямо обмерли, слыша такие речи. Святая?..
— Помните Анну-Марию, сноху старика Гебана? Из Унцешт родом, за Митрикэ вышла…
Лица копавших серы от перелопаченной земли, измучены бессонной ночью, а тут чьи-то снохи… Бану уточняет:
— Георгий, — повернулся он к старшему, — это та, что причитала… Ты ж был вчера в поле? Митрикэ-то, говорят, в люди выбился, успел капралом заделаться… В сороковом только Гебан да Ион Платон не вернулись из-за Прута, у твоего приятеля служить остались, у короля Карла, — хмыкает Бану. — А дом их у самой долины, по соседству со Скрипкару…
— Давай покороче, дядя!
Младший Сынджер со всего маху вогнал лопату в землю, аж рукоятка задребезжала.
— Так она с наградой уже, эта Анна-Мария! — дернул плечом Бану, будто вот-вот пиджак сползет. — Иду я к звонарю узнать, вернулся ли батюшка Думитру, а он навстречу, прямо из примарии. Ну, дела! Фэлиштяну, бывшего председателя, засадили под замок — мол, кто его просил раздавать землю голытьбе. Ну и вот, заходит звонарь в сени, а из кабинета примаря женщину выносят, еле дышит… Что такое? В обморок, говорят, упала, прямо в кабинете… Больная, что ли? Нет, говорят, награду получила. Надо же — ее поздравляют, а она — хлоп! — и на пол. Звонарь говорит: награда, видать, тяжела, если ноги не несут. А примарь: «Нет, отвечает, просто дура, мозги куриные, не понимает, что такое медаль… Вызвал я ее и вежливо так говорю: „Примите наши соболезнования, так и так… На ваше имя поступила телеграмма от генерала-маршала его превосходительства господина Антонеску. Ваш супруг Гебан Думитру сын Иона при взятии городишка Скуляны удостоился славы тех, что пали за родину и воссоединение румынской нации!“» — И Бану ощерился: — Хе-е… Отхватила себе баба, а? Вместо мужика…
Михалаки Капрару как стоял в яме, так и закатил глаза к небу и размашисто перекрестился. А братья Сынджеры ошалело уставились друг на друга, словно подумали, что роют могилу для самих себя.
А Бану не унимается:
— Ну, теперь как пить дать пенсию получит, звонарь шепнул по секрету. Молодая, детей нет… Дура, чего бы я в обморок падал? Бабьи финти-минти… Да, слаб человек, давно говорю, то ли дело коза: хвост по ветру и доится… Ну, чего глаза вылупили, пейте, или зря принес?..
…Много-много лет прошло, и снова вижу ковыль на взгорье… Белые клоки треплются по ветру, как седые космы кладбищенского сторожа Василия Бану, и так же освистывают все, что подвернется. А я никак в толк не возьму — чего он хочет? Видно, так мы с ним и не сговоримся — вон солнце, на что уж могучее светило, и то не знает, как подступиться — заискивает, ластится, а ковыль знай себе подсмеивается и мурлычет: