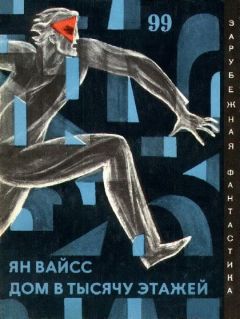Ночевал он у них. Утром проводил ее в госпиталь и весь день без цели бродил по городу; сам себе представлялся теперь другим, более значительным человеком. Даже поступь его стала важной, размеренной.
А вечером они простились на вокзале.
С фронта он ей много писал, подробно рассказывал про свою жизнь, подчеркивая чернилами наиболее главные, по его мнению, моменты. Она отвечала беглыми письмами на сложенном вдвое листе бумаги. Трудно было понять по ее ответам, как там она, и в следующем письме Андрей Данилович дотошно выспрашивал обо всем, задавал множество вопросов, а после огорчался, получая вновь торопливую записку. Так же небрежно и торопливо, будто речь шла не о ней, а о соседке, она сообщила, что ждет ребенка, да еще и приписала: «Но не тревожься и пусть это тебя не связывает. И не считай, пожалуйста, себя чем-то обязанным, я ведь и сама не маленькая». Он долго не мог прийти в себя. Как же так? Родится ребенок, и он не должен иметь никаких обязанностей? Такое в голове не укладывалось.
«Женские штучки», — решил он в конце концов и, успокоившись, оформил на ее имя денежный аттестат.
Войну Андрей Данилович закончил в Праге. И вскоре демобилизовался: ранение не позволяло остаться в армии.
Провожали его торжественно — при полковом знамени. В тот день вручили ему последний орден, а в дивизионной газете крупно поместили сильно подретушированный портрет. Он и не сразу узнал себя на газетном листе: глаза колючие, поперек лба спускается к бровям глубокая складка, а плечи в мундире развернуты, и грудь выпирает колесом. Таким вот, ветераном, боевым командиром, и видел его офицер из газеты, сфотографировавший его и написавший о нем статью. Названия мест, где он воевал, в статье были выделены темным шрифтом, и при чтении от пестроты набора уставали глаза.
В полк приехал начальник политотдела дивизии, пожилой, но бодрящийся тучный полковник с багровым загривком, выпиравшим из тугого воротника кителя. На банкете, устроенном офицерами, он чокнулся стаканами с Андреем Даниловичем и сказал с налетом старческой умиленности:
— Вот и отвоевались. Да-а… А теперь как будем жить? Вы, помнится мне, в деревне выросли? А ведь я и сам, как говорят, от чернозема, от сохи да от бороны — до войны секретарем сельского райкома партии работал. Всю войну, можно сказать, снилось село: березы, скрип «журавлей» над колодцами… Друзья зовут — возвращайся. Да прихвати, пишут, с собой гвардейцев, из тех, что побоевей, чтобы орденов побольше… Не думаете в деревню поехать?
Слушая полковника, Андрей Данилович все вспоминал статью о себе. Перед глазами так и пестрели названия сел и городов: сколько пройдено по стране, по Европе — до Берлина. А от него — к Праге. Он завершил мысленно этот список тихой своей деревней, припомнил трухлявые бревна дома, кисловатый, бражный запах от куч зерна в поле и усмехнулся.
— Меня ждут жена и дочь, — назвал город. — Жена хочет учиться дальше, окончить аспирантуру.
— Да, да… Конечно. Всякому свое, — сказал начальник политотдела. — Жизнь большая, а вы молодой — найдете свое место. Желаю вам настоящего счастья.
Поезд уходил поздно ночью, провожали Андрея Даниловича шумной компанией, в вагон его внесли почти на руках, а когда состав тронулся, то провожавшие офицеры стали стрелять в небо по звездам. Военная жизнь закончилась и началась новая — гражданская, мирная.
Выходя из вагона на перрон городского вокзала, Андрей Данилович первый увидел жену. Она проталкивалась в толпе к поезду, подняв над головами людей руку с букетом цветов, и, похудевшая, с чуть запавшими щеками и резче проступившими скулами, выглядела взрослей, строже лицом, а от каблуков — и высокой.
Почти столкнулась с ним, побледнела, ойкнула, прижала букет к груди.
— Пойдем домой. Нас ждут, — неловко целуя его, сказала она и добавила с нервным смехом: — Ждут меня… с мужем.
Около месяца каждую ночь снилась еще Андрею Даниловичу война, спал он неспокойно, метался во сне, сдвигал брови, выкрикивал команды, но утром находил рядом жену, ощущал теплоту ее тела, дотрагивался до деревянной, на колесиках, кроватки дочери и уже на весь день глупел от покоя и счастья. А скоро наступила пора подыскивать работу, и он решил сходить в райком партии.
Секретарь райкома, человек не на много старше его, но с краснотой на воспаленных веках и с помятым усталостью серым лицом, выслушал его и задумался.
— Куда же вас определить? Да… Куда же? Куда? — Он, постучал карандашом по столу и спросил: — У вас специальность какая-нибудь есть? Что вы лучше всего умеете делать?
Увидев на пиджаке секретаря райкома три золотые нашивки за ранения и два ряда орденских колодок, Андрей Данилович признал его за своего, за фронтовика, и доверительно ответил, как близкому человеку:
— Воевать. Что ж еще?
— Воевать-то мы научились, это точно. Что да, то да, — усмехнулся тот и снова задумался. — Недавно мы вот начальника жилищно-коммунального отдела металлургического завода турнули. Нечист на руку оказался, — он посмотрел на Андрея Даниловича и неожиданно с надеждой в голосе сказал ему, тоже как близкому человеку: — Слушай-ка… Пойдешь на его место, а? Навоюешься, дай бог. И нам поможешь. Вместе будем воевать. А?
Отказываться после такого не повернулся язык.
Непривычное, колготное дело его утомляло, он возвращался домой поздно, еле передвигая ногами, с головной болью и с осевшим от постоянной ругани голосом. А дома начались свои беды… В двухкомнатной квартире жилось тесно. Вернулся из армии брат жены, и по ночам, когда дочь поднимала крик, сквозь тонкую стенку слышалось, как он, закуривая во второй комнате, гремит спичечным коробком. Утрами все торопились на работу, и в умывальнике устанавливалась очередь. Андрей Данилович любил мыться долго, шумно, плескать пригоршнями воду в лицо и на грудь, а тут обязательно кто-нибудь стоял в ожидании за спиной, и приходилось уступать место. Теща готовила еду на всех и постоянно жаловалась, что ей трудно хозяйничать: полученных по карточкам продуктов не хватало, а на базаре они стоили дорого, и на питание уходили почти все деньги. В тесноте и шуме двух семей заниматься жене было трудно, и у нее портился характер, а когда она обнаружила, что ждет второго ребенка, то совсем пала духом, раздражалась по пустякам, отчужденно смотрела на Андрея Даниловича потемневшими глазами и говорила:
— Просто ума не приложу, что дальше делать. В нашем-то положении — и второй ребенок… И как это мы допустили?
Чувствуя себя виноватым, Андрей Данилович отмалчивался и мучительно пытался найти выход. В одну из таких минут его внезапно озарило.
— Знаешь что?.. А давай-ка я дом построю! — От этой мысли у него даже сперло дыхание, и он понял, что давно мечтает о собственном доме, что жить в пятиэтажной громадине больше не может, его давят каменные стены, а широкий и плоский, без единого кустика двор опостылел.
— То есть, как это — дом построишь? — удивилась жена. — Что ты выдумываешь? Так вот просто взял и построил?.. Ерунда какая-то.
— Дадут ссуду, — ответил он. — Срублю дом, а рядом разобью сад. Здесь, на Урале, садов-то настоящих, считай, ни у кого и нет. А земля, между прочим, возле города для сада самая подходящая. Я уже приглядел. Вот и появятся у нас яблоки, груши, вишня. А в саду — тишина. Трава растет. В тени трава мягкая, сочная и темновато-влажная… Красота!
Слушая, жена покачивала головой и улыбалась, как на лепет ребенка. А когда разговор ей наскучил, сказала:
— Ну да делай как хочешь. Тебе виднее.
Дом Андрей Данилович поставил на окраине города, в местности, называвшейся Никитской рощей. Поодаль от дома, за буграми, горбатившимся пустырем, росли березы: серебристо-туманные по утрам, а к вечеру чеканно-золотистые, подсвеченные заходящим солнцем. По-деревенски тихо было вокруг, спокойно. Но город уже и тогда одним краем подбирался к роще, потом же из нее сделали парк, обнесли деревья литой чугунной оградой. В березах светились фонари, а с танцплощадки из парка доносилась музыка.
Быстрота, с которой ему удалось построить дом, всех поразила. Днем он неутомимо крутился на службе: выколачивал, где только мог, материал для ремонта запущенных в военные годы квартир, принимал от подрядчиков новое жилье и медленно, в ругани, в тяжелых спорах, расселял туда семьи рабочих; вечером же — до поздней темноты, до тех пор, пока в густых сумерках не переставала различаться белизна рук, катал с четырьмя помощниками — плотниками, работавшими с ним по договору, бревна на своем участке… От загара и от работы лицо его почернело. Он похудел, стал поджарым, тонким в поясе, но ходил стремительно, весело.
Закончил строительство к сентябрю и уже на второй день бродил с мерным шнуром за домом по участку земли, разбивая его под сад.