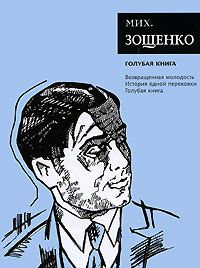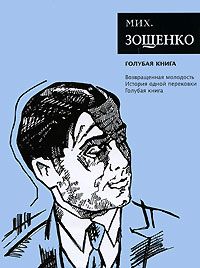Свои недомогания и потерю здоровья он приписывал почему-то блошиным укусам.
Он яростно боролся с этими паразитами. По нескольку раз в месяц он вытаскивал в сад все кровати, матрацы, перины и диваны. Он обжигал на примусе кровати и яростно выколачивал палкой все, что можно было выколотить.
Он создал целую теорию, по которой выходило, что он лишился здоровья благодаря по крайней мере трем миллионам укусов клопов и блох, которые заносили в его кровь различные яды и микробы в течение сорока восьми лет и выпили по крайней мере десять литров крови.
Он лечился от своего бытового отравления и от своих нервных недомоганий разными домашними средствами.
Презирая врачей и говоря, что они вконец заездили его, он, по совету друзей, пил разную дрянь и настойки, садился зимой на час и полтора в кадку с рыхлым снегом, а летом окунался до пояса в холодную воду, в силу чего постоянно хворал простудой, лишаями, мокрой экземой, песьяками и анемией конечностей. И имел чертовские затруднения, когда садился в кресло или на скамейку.
Ничто другое его не интересовало и не трогало, и он даже удивлялся, как может людей что-либо трогать, кроме здоровья.
Служил он, впрочем, исправно, говоря, что счет и цифры ему полезны как отвлекающее средство, оттягивающее лишнюю кровь от ног к голове.
К любовникам своей жены он относился терпимо, играя с ними иной раз в шашки и в подкидные дураки.
Но всякий раз, когда появлялся на горизонте новый фаворит, он проявлял грозные признаки гнева. Он буйствовал, устраивал скандалы, орал, грозил всех убить, становился нежным и пылким мужем и на несколько дней действительно отгонял нового любовника, который от непривычки пугался, полагая, что это все время так и будет.
Но по прошествии нескольких дней бухгалтер смирялся, угасал и вежливо встречал друга дома.
Последнего фаворита — Кашкина — бухгалтер боялся как огня. И действительно, подобной личности нельзя было не бояться. Этот был способен на все: наорать, ударить в морду и даже выгнать из дому.
Он ежедневно приходил на своих кривых лапах, покручивая кверху усы, хохоча и громыхая.
Он шутил, веселился и подсмеивался, говоря бухгалтеру:
— Ну, как у вас насчет поправления здоровья? — И, не выслушав, шел на своих полусогнутых на дамскую половину, где его ожидали в цветном капоте, благоухая одеколоном и пудрой.
Эта мерзавка, бывшая мать, ничуть не стыдилась своей дочери. Напротив того, часто беседуя с ней, она разговаривала как с подругой, хохоча и веселясь над некоторыми подробностями дочкиной жизни.
Вот какова была семья соседей Каретниковых. И вот какова была девятнадцатилетняя девочка Туля, сыгравшая решительную роль в жизни нашего профессора.
Но не она вернула ему молодость. Напротив, она чуть не погубила ему все начатое.
24. Профессор стареет все больше
Семья профессора, когда-то дружная, жившая общими интересами, заметно распадалась. Уже не было общих обедов. Каждый кушал в своей комнате, в разное время. И только вечерний чай подавался для всех в комнате профессорши.
За этим чаем шли вялые, безразличные разговоры о погоде, о дровах, еде и о прочих мелочах быта.
И только иной раз Лида, энергичная и резкая особа, грубоватая и крикливая, начинала пикироваться с отцом, упрекая его в реакционности взглядов, в отсталости и в отрыве от масс.
Отец, вяло защищаясь, ежился и пытался уходить, но, вызванный на объяснения, начинал сердиться, кричать и упрекать дочку в непочтительности.
Почему же непочтительность? Какой вздор! Нет, она говорит с ним не как с отцом, а как со старшим товарищем, который заблуждается и которого надо остеречь. Ведь не дело же, что он, умный, образованный и возвышенный, стоит на позициях болота и защищает старый, реакционный мир, идя против прекрасного будущего.
Отец, возмущенный свободностью ее речи, горячился все больше и больше, высказывая под горячую руку свои взгляды и воззрения.
Нет, он возмущен. Девчонка, которая ни черта не смыслит, смеет его остерегать. Нет, почему же? Он честный человек. Он всегда стоял за новую жизнь. Но он не видит логики в некоторых вещах. Он не видит будущего. Он не желает фантазировать вместе со всеми. Короче говоря, он не представляет жизни без денежных отношений. Нет, он не идет против социализма. Очень хорошо, если это будет, но этого, вероятно, не будет. Это потерянное время. Это романтический бред и фантазия, которую он очень уважает, но он имеет право не доверять будущему.
Захлебываясь от волнения, Лида, размахивая руками, требовала от отца конкретно указать, что именно ему кажется невероятным и невозможным и в чем, по его мнению, нет логики.
Но отец уклонялся от объяснений, бормоча, что он не все еще продумал и что он все ей скажет, когда ему самому будет ясно.
Эти разговоры оканчивались криками и воплями. Возмущенный отец, припертый к стене ясностью и элементарностью вопросов, терялся, защищаясь криками, упреками и слезами.
Черт возьми! Хорошо. Извольте. Да, вот он за капиталистический мир. Да, он предпочитает быть нищим в Европе.
Он предпочитает там открывать двери буржуям. Вот какое иной раз у него бывает настроение. Вот до чего его доводят собственные дети. Вот — делайте с ним что хотите.
Лида, раскрыв рот, с изумлением смотрела на отца. Ее поражала сила его гнева и сила его раздражения. Жалость шевелилась в ее сердце, но, поборов в себе это, она с натянутой улыбкой вставала из-за стола и, пожав плечами, уходила.
Взбешенный и раздраженный Василек выходил из комнаты, разбрасывая стулья и стуча дверьми.
Он выходил в сад и на улицу и шагал, размахивая руками. Он боялся этих вспышек, предполагая, что это его погубит или еще более подорвет его силы. Но всякий раз после этих вспышек гнева он с удивлением замечал, что вялость его и расслабленность исчезают и даже какое-то мужество и бодрость как бы вливаются в его жилы (XII).
Он возвращался к себе, слегка успокоившись, мог даже работать — писал письма, просматривал лекции и читал, что случалось с ним очень редко. Однако наутро он вставал разбитый и утомленный и, еле двигаясь, шел на работу.
Такие разговоры случались все чаще, и вспышки гнева делались все сильнее и страшнее.
Мадам, махая руками и умоляя успокоиться, уходила от греха в другую комнату. А Василек гневно и раздраженно бушевал, кричал и выбегал из дома.
В такие дни соседи Каретниковы, волнуясь от неизвестности, с любопытством прислушивались к крикам, ожидая, что скандал перенесется на улицу, и тогда им будет все ясно и понятно, что там происходит.
Прохвост Кашкин, предполагающий, что это скандалят муж с женой и крайне ненавидя эту последнюю, потирая руки, говорил о профессоре: «Ну, молодец. Кажется, спасибо, загрыз старуху. Давно пора».
Эти семейные раздражительные сцены совершенно расшатали семью профессора.
Сам Василек, стараясь избежать скандалов, стал просто бояться своей дочери. Он избегал встреч, а когда встречался — хмурился или умоляющими глазами смотрел на нее.
Теперь все реже семья собиралась в саду.
В теплые летние и осенние вечера еще недавно семья, рассаживаясь на крыльце, дружески беседовала о том о сем. Сейчас это почти прекратилось.
И, собравшись иной раз в саду, семья неловко молчала. Лида качалась в гамаке. Василек ходил по дорожкам, лавируя между лягушек. Мадам сидела на крыльце. А Коля, когда был дома, располагался у раскрытого окна.
Наконец мадам, желая расшевелить общество, начинала нести какую-нибудь чушь и околесицу.
— А вот, кажется, Сатурн, — говорила она, наобум тыча куда-нибудь пальцем.
Профессор, горько усмехаясь, начинал выговаривать ей, что неужели она за двадцать пять лет жизни с ним не научилась разбираться в солнечной системе, что Сатурна в это время и в этой четверти неба не бывает.
Лида, желая сгладить свои отношения с отцом, спрашивала его о той или иной звезде. И тогда понемножку смягчались сердца, и начинался разговор об астрономии и о новых открытиях в этой области.
Однако, видимо, многое было уже сказано и рассказано, и требовались новые слушатели, которые оживили бы лектора.
Такие слушатели находились. И чаще всего это был друг дома соседей — Кашкин, любитель поговорить на научные темы. Завидя профессорскую семью, он подходил к забору и, глядя на небо своими осоловелыми глазами невежды, абсолютно ничего не понимая и не разбираясь, где чего есть, говорил какую-нибудь пошлость, вроде того что есть ли люди на Луне.
Профессор, горько усмехаясь, описывал мертвую планету, лишенную воздуха и всякой жизни.
— А скажите, профессор, — говорил Кашкин, разглядывая небо нахальным взглядом, — а где у вас тут Юпитер расположен?
Профессор показывал ему на Юпитер. И Кашкин, ковыряя в зубах щепкой или соломинкой, расспрашивал о вселенной, хотя решительно никакого дела ему не было до мироздания. Его больше всего занимала мысль, как и всякого, правда, здравомыслящего человека, — есть ли жизнь на других планетах, а если есть, то какая именно, какой там строй, имеются ли там, как думает профессор, лошади, собаки и магазины.