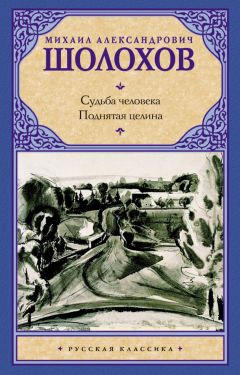я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок, и фашисты перестали пленными брезговать.
Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером – шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам.
Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» – была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.
Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него под воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит как паровоз, а жрать сядет – только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе – и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.
Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.
Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли…
«Ну, – думаю, – ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»
Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье.
За два дня, перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный как грязь немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.
Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.
Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают: мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем…
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника – командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицеpax обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь,