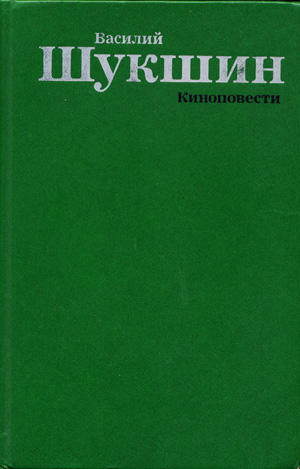хотели убить. Нечаянно убивают редко.
Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю… Коля наткнулся на его спокойный – как-то по-особому спокойный, зловеще-спокойный – взгляд.
– Не успеешь махнуть, – сказал Егор. Помолчал добавил участливо: – Коля.
– А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! – попытался еще надавить Коля. – С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!
– Пить надо меньше, дурачок, – опять участливо сказал Егор. – Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.
Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то было двинулся за ним, наверно Коля, но его остановили:
– Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской! Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.
Егор не остановился. Не оглянулся.
…Первую борозду в своей жизни проложил Егор.
Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь – что это его работа. Пнул сапогом ком земли, хмыкнул.
– Ну и ну… Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь!
Он оглянулся по степи, вдохнул полной грудью весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. И постоял так.
Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает… Волнующее чувство, Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя – где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди, не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: как гудели столбы, корова Манька да как с матерью носили на себе березки, мать – большую, малолетний Егор – поменьше, зимой, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку… Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого, и грустно, и по-иному щемило сердце – и дорого и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить постоянный свой бег по земле, Егор не понимал, как это будет – что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.
Егор еще раз оглядел степь… Вот и этого будет жаль.
«Да что же я за урод такой! – невольно подумал он. – Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо! Ну и радуйся».
Егор глубоко вздохнул…
– Сто сорок лет можно жить… с таким воздухом, – сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.
– Ох вы, мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что – дождались? Зазеленели… – Он ласково потрогал березку. – Ох, ох – нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились! И молчат стоят. Хоть бы крикнули – позвали, нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу – красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь. – Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: – Ка-кие стоят! – И пошел к трактору.
Шел и еще говорил по своей привычке:
– А то простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот… Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так.
И запел Егор:
«Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки-и
Характер вызнала-а.
Характер вызнала-а:
Характер ой како-ой…»
Так с песней и залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал – видно было – петь, но уже песни не было слышно из-за этого грохота и лязга.
Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.
В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.
Вдруг дверь отворилась – и заявился нежданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.
Егор даже слегка растерялся.
– О-о! – сказал он. – Вот так гость! Садись, Вася!
– Шура! – поправил гость, улыбнувшись.
– Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал…
Так тараторил Егор, а сам, похоже, приходил пока в себя – гость был и вправду нежданный.
– Мы с Шурой служили вместе, – пояснил он. – У генерала Щелокова. Садись, Шура, ужинать с нами.
– Садитесь, садитесь, – пригласила и старуха.
А старик даже и подвинулся на лавке – место дал.
– Давайте.
– Да нет, меня там такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут…
– Да ты садись, поужинай! – упорствовал Егор. – Подождет таксист.
– Да нет… – Шура глянул на часы. – Мне еще на поезд успеть…
Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других – не понимали, что он хочет сказать. Бывало это и от растерянности.
– Ну, как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем – чего там тебе передать надо, в машине, что ли, лежит? Пойдем примем пакет от генерала… Расписаться ж надо? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем…
Они вышли.
Старик помолчал… И в его крестьянскую голову пришла только такая мысль:
– Это ж сколько они на такси-то прокатывают – от города и обратно? Сколько с километра берут?
– Не знаю, – рассеянно сказала Люба. – Десять копеек.
Она в этом госте почуяла что-то худое.
– Десять копеек. Десять копеек на тридцать шесть верст… Сколько это?
– Ну, тридцать шесть копеек и будет, – сказала старуха.
– Здорово живешь! – воскликнул старик. – Десять верст – это уже рупь. А тридцать шесть – это… три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят – семь двадцать. Семь двадцать – только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.
Люба не выдержала, вылезла тоже из-за стола.
– Чего они там? – сказала она. И пошла из избы.
…Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу открыта. И она услышала голос Егора и этого Шуры. И замерла.
– Так передай. Понял? – жестко, зло говорил Егор. – Запомни и передай.
– Я передам… Но ты же знаешь его…