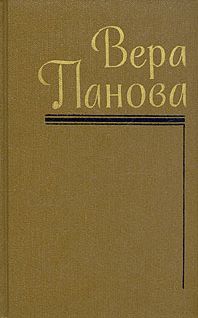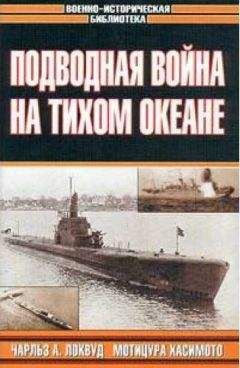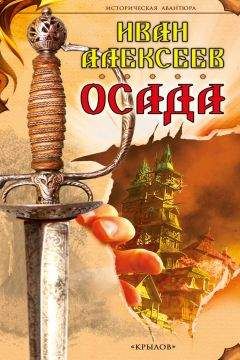Уж не помню, кто из них предъявил ордер на обыск у гражданина Вахтина Бориса Борисовича, заключив фразой: "с последующим вашим арестом". Обыскали прежде всего нашу комнату (дав мне предварительно встать и одеться), потом мама, бедная мама, повела их в детскую. Конечно, ее расчет был нелеп, разве этих людей мог умилосердить вид троих спящих детишек, но мы все были тогда простаками, не смыслящими ни аза.
Во время обыска я раза два открывала входную дверь, выглядывала во двор: светало, мела метель, крылечко все пуховей, все выше зарастало снегом. Больше всего они провозились с книжным шкафом, каждую книгу брали за корешок и трясли, а потом кидали на пол. Из одной книги выпала пачка облигаций госзаймов, из другой - деньги, полученные мною при увольнении. То и другое нам вернули тотчас же предупредительнейшим образом. Никакого проку от этого обыска явно не было, да они и не добивались его, им нужно было проделать все формальности, прежде чем арестовать человека.
Мне они велели дать ему с собой смену белья (еды никакой) и в понедельник прийти на улицу Энгельса, 33, там мне скажут, какие передачи и в какие дни я могу делать.
Не помню, как я дожила эту ночь. Помню, что на другой день я сидела у нашего маленького письменного столика и писала письмо М. И. Калинину. Сколько таких писем было мной написано в дальнейшем, и все до единого напрасно. Но в тот день я была слепа, как новорожденный щенок, горе сжимало мне горло, не давало дышать, и я писала, еще надеясь, что от этого что-то может измениться.
Помню, что весь этот день меня, кроме ощущения железного ошейника на горле, не покидало ощущение ледяного холода - я набрала полные туфли снега, когда бежала к воротам вслед за Борисом и теми, кто его уводил.
В тот же день я собрала еду и белье, чтобы завтра же, в понедельник, отнести по указанному адресу. (Надеюсь, адрес я этот указала правильно, если нет, меня поправят многие и многие, кто помнит лучше.) В понедельник спозаранок пустилась в путь. Как сейчас вижу эту дверь, такую обыкновенную, и эту заплеванную, забросанную окурками лестницу. У двери на каменном крыльце стоял часовой, он пропустил меня без всяких вопросов. Поднялась - на первой же площадке налево дверь, в двери окошечко, у двери стоит какая-то маленькая старушка. Я прильнула к окошку, оттуда спросили:
- К кому?
- К мужу, - глупо ответила я.
- Фамилию скажите.
Я назвала: "Вахтин", - мне сказали:
- Давайте, - и я передала в окошечко мои свертки и пакеты, довольная собой, что правильно распорядилась - принесла передачу, ни у кого не спрашиваясь. И вдруг маленькая старушечка берет меня за локоть:
- Вахтина арестовали? Когда?
- Прошлой ночью, - отвечаю.
- Я - мама Вали Вартанова, - сказала маленькая старушка, - его тоже арестовали в ту же ночь.
Разумеется, мы уже не могли отстать друг от дружки - вместе пошли вон из окаянного дома. Выяснилось (сверили по времени), что прямо от Вартановых они поехали к нам. Розалия Георгиевна сказала, что они приезжали в черной машине, я этой машины не видела, хоть и выбегала за ними, когда они выходили. Спросили друг друга о некоторых общих знакомых. Но в тот день и Исай Покотиловский, и Володя Третесский были еще на свободе, их арестовали позже, когда именно - не знаю.
С милой, приветливой Розалией Георгиевной мы стали встречаться очень часто - и не только у той двери с окошечком, мы стали бывать друг у друга. Я познакомилась с ее дочерью Варюшей, сестрой Вали Вартанова. Варюша была красавица редкая, прекрасная, как шемаханская царица. Она была замужем за зубным врачом Василием Тихоновичем Галкиным. Он ее обожал и баловал, как мог, хоть за одно свое дитя Розалия Георгиевна могла быть спокойна. За Валю же ее сердце обливалось кровью денно и нощно. Это была та материнская скорбь, которой не изжить до гроба, те святые слезы, о которых писал Некрасов.
Позже к нам присоединилась Сима, сестра Исая Покотиловского. Мне с этими женщинами было легче, чем с кем бы то ни было, нас объединяло общее горе и общие бредовые мечты, что авось вдруг что-то изменится, вдруг да забрезжит надежда. Увы, эти мечты были совершенно беспочвенны, ниоткуда не блистало ни малейшего луча, люди вокруг падали и падали. Почти в каждой семье было такое же горе, как у нас, то есть у меня, у Вартановых, у Покотиловских.
Кстати, если бы не эти несколько женщин, уравненных со мной роком в моей отверженности, мне бы почти не с кем было знаться. Володя Филов, родственник и почти друг детства, на другой день после моего увольнения из "Внучат" без обиняков дал мне понять, что нам незачем впредь встречаться. Те, что во "Внучатах" льстили мне сверх всякой меры и даже изображали из себя моих учеников - Давид Гоухеров, Женя Вакурская, Люсьен Штокгаммер, встречая меня, заблаговременно перебегали на другую сторону улицы, чтобы кто-нибудь не увидел их близко от меня. Через много, много лет, уже будучи трижды лауреатом Сталинской премии, я получила большое письмо от Люсьена Штокгаммера. Он мне напоминал, как мы оба когда-то работали во "Внучатах", и просил меня ему помочь - в чем же? Ни более ни менее как получить повышение в чине, он служил тогда в армии и его, по его мнению, очень долго не производили не то в капитаны, не то в майоры, уж не помню. Как ни была я уже приучена к подобным письмам, но очень тогда удивилась Люсиному посланию. Пришлось ему ответить, что он обратился не по адресу, что я не маршал и даже не генерал и чины раздавать не могу.
Но и тогда нашлись люди. Веня и Миррочка Жак ни на йоту не изменили прежнего дружеского и доброго отношения ко мне. Женя Безбородов, прежде бывавший у нас очень редко, тут вдруг зачастил и всячески старался подбодрить меня живым разговором и шуткой. Милый Полиен Николаевич, встречаясь на улице, всегда останавливался, пожимал мне руку, называл, как в прежние времена, Верочкой, говорил: "Что делать, дружок, у вас дети, надо жить, надо держаться". И даже угрюмая Белла Плотникова, библиотекарша, ласково улыбалась мне. Не говоря уж о Сарре Бабенышевой та, как и Жаки, помогала мне не только добрым словом, но иной раз и материально. Помню, не стало у нас угля, нечем было протопить, и Саррина мама сказала: "Приходите к нам, Верочка, берите сколько вам нужно, у нас еще есть". Я пошла к ним и принесла полное ведерко угля, затопила печку и выкупала детей. А милый Эммочка Кранцберг стал каждый месяц присылать мне деньжат...
Зато и удивила меня в те дни любимая моя Люба Нейман, "рыжая". Пришла ко мне и, когда я не удержалась от сетований, сказала буквально следующее:
- Вера, у нас никого не сажают без вины, это мне Вася сказал, я ему верю. (Вася, ее муж, был чекист.) - Впрочем, то же самое сказал мне Яша Фалькнер, когда я сдуру разлетелась к нему с жалобой на то, что меня не берут на работу даже санитаркой в больницу.
- Что делать, Вера, - сказал Фалькнер, - в этом ты можешь винить только своего Бориса.
Я сказала:
- Ты не хуже меня знаешь, что за Борисом нет никакой вины, как и за всеми другими.
- Ерунда, - сказал Фалькнер. - Невиновных у нас не сажают.
Он был тогда членом Бюро Северо-Кавказского крайкома партии, большим начальником, когда говорил те слова, сидя в своем роскошном кабинете. А много лет спустя Иван Макарьев, вернувшись из двадцатилетней ссылки, сказал мне, что Яша Фалькнер умер, не выдержав истязаний. Бедняк Фалькнер. Он описан в "Сентиментальном романе" под именем Югая, только в Ростове нет переулка имени Фалькнера, а мог бы быть...
Насчет работы я обращалась с письмом к первому секретарю крайкома партии тов. Шеболдаеву, но он мне не ответил вообще ничего; впоследствии я прочла в газетах (уже живя на Украине), что Шеболдаев расстрелян как враг народа. О, сколько теней шествует со мной рядом - и с тобой, Бувочка!
Председатель крайисполкома Ларин разделил участь Шеболдаева. Председатель горисполкома Овчинников застрелился сам, когда пришли его арестовывать. Был такой Змиевский, секретарь той парторганизации, которая исключила Бориса из партии. И он, это совершенное ничтожество, абсолютный нуль, кому-то застил свет, и его расстреляли как польского шпиона.
Но все это потом. А в те весенние месяцы и в начале лета 1935 года я с моими новыми приятельницами думала и говорила об одном - скорей бы кончилось следствие над нашими близкими, скорей бы выяснили, что они невинны, и отпустили их. Несчастные дуры, мы верили, что это возможно.
В эти весенние дни затеяла я как-то большую уборку. Перемыла окна, потом взялась мыть полы. Дети, все трое, сидели в это время за столом, обедали. Мою пол и, отжимая над ведром тряпку, сквозь стук падающих капель вдруг слышу, что кто-то твердыми шагами всходит на крыльцо. И сейчас же широкая плотная тень ложится на пол передо мной и, подняв глаза, я вижу фигуру в шинели и буденовке с красной звездой и узнаю - это тот военный, что приходил за Бувочкой.
- Вы ко мне? - спрашиваю.