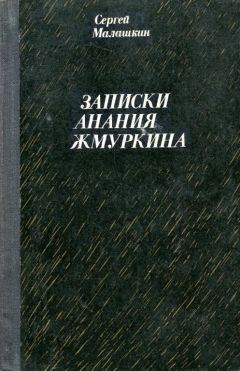Вошла Нина Порфирьевна, я посмотрел длинным взглядом на нее, румяную и красивую. Ее глаза лучились — в них цвела весна, губы улыбались.
— Прокопочкин, Жмуркин, Синюков и Лухманов, надевайте халаты, идите на третий этаж. Там в кабинете главного доктора комиссия. Ждите в приемной, когда вызовут, так и войдете в кабинет. — И она тут же удалилась.
Мы молча надели халаты и отправились туда, куда нам сказала Иваковская.
В приемной главного доктора было человек тридцать. Я сел на стул. Прокопочкин привалился к стене и, передохнув от лестницы, тоже сел. Синюков и Лухманов уселись на диван, за круглый столик, на котором лежали газеты «Свет», «Новое время», «Речь» и «Биржевые ведомости», журналы «Огонек», «Лукоморье», «Нива» и «Солнце России». Возле двери, за письменным столом, — сестра. Она вызывала людей по списку и посылала их на комиссию. Люди не задерживались долго в кабинете, быстро выходили из него. Одни довольные, с сияющими лицами, другие туча тучей. Если лицо у вышедшего из кабинета веселое, то его отпустили совсем или же дали ему месяц-два на поправку здоровья. Если у вышедшего лицо пасмурно, туча тучей, то его и спрашивать не надо — назначили в запасной батальон.
Я взял журнал «Нива» и открыл; рассматривая картинки, я на предпоследней странице увидал стихотворение и прочел. Вот оно, эпически спокойное и страшное:
И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена́,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.
Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
. . . . . . . . . . . . .
С победной музыкой и пением
И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?
Иль зори будущие ясные
Увидят мир таким, как встарь? —
Огромные гвоздики красные,
И на гвоздиках спит дикарь!
Чудовищ слышны ревы мирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.
Не все ль равно! Пусть время катится,
Мы повяли тебя, земля!
Ты только хмурая привратница
У входа в божие поля!
На сердце у меня после этого стихотворения стало еще мрачнее, будто передо мною погасили свет в будущее человека и я провалился в душно-теплый мрак — в чертову нирвану. Из нее выпрыгнул огромный, покрытый бурой жесткой шерстью и с багряно-желтыми глазами дикарь, высунул кровавый язык и затанцевал. Я вздрогнул и бросил от себя журнал, махнул рукой по глазам. Мрак нирваны рассеялся, дикарь, танцующий на красных гвоздиках, пропал. Вместо теплого мрака и дикаря — солдаты, столы, сестра, диван и стулья, белые стены и сероватый день на улице, за большими окнами приемной, — он заглядывал в окна. Я стал смотреть во двор. Глядя на крыши соседних домов, высоких и мрачноватых, я не заметил, как дошла уже очередь и до меня, — меня вызвали раньше Прокопочкина, Лухманова и Синюкова. Из кабинета вышел высокий солдат, лицо у него было красное, а глаза виновато-растерянные. Он чуть не сбил меня с ног.
— Ослеп от радости, — посторонившись, сказал я добродушно.
Солдат даже не взглянул на меня, махнул рукой и выбежал из приемной. Сестра поднялась и открыла дверь и, пропуская меня мимо себя, строго сказала:
— Входите, Жмуркин!
Я переступил порог и прикрыл дверь. Остановился. Свет высоких окон бил навстречу мне, в глаза. Толстые и узкие, бородатые и безбородые лица — за длинным столом.
— Подойдите сюда, к столу, — позвал громко знакомый голос.
Я подошел. Из-за стола поднялись главный доктор Ерофеева, седой, с орденами на груди старичок, коренастый, с крупной лысиной на шарообразной голове, потом привстал со звездою на узкой груди генерал и, поглядев на меня, тут же сел.
— Покажите руку, — попросила Ерофеева.
Я протянул руку.
— Пошевелите пальцами, — приказал лысый генерал и выпучил серые глаза на кисть моей руки.
Я пошевелил пальцами.
— Прекрасно, — протянул решительно генерал и сел на свое место.
— Прекрасно, — повторил старичок тоненьким голосом и смахнул пылинку с левого плеча сюртука.
— И совсем не прекрасно, — возразил я довольно громко, а главное — неожиданно для себя, — пальцы-то у меня еще не работают, а двух нет — под Двинском остались.
Члены комиссии вытянули лица, еще больше выпучили глаза и с возмущенным удивлением уставились взглядами на меня.
— Ничего, — опомнившись первым, гневно сказал лысый генерал, — отечеству еще можете служить!
Физиономии над столом, над его зеленым полем и чернильными приборами, оживились, по ним пробежали гримасы и спрятались, вместо них выступила чопорно-суровая деловитость, и она превратилась предо мной в стену. Видя перед собой не лица комиссии, а стену, я понял, что они очень заинтересовались моей наружностью: крошечным ростом, бородой, а главное — тем, что я осмелился возразить генералу на его «прекрасно».
— Если так, ваше превосходительство, то придется послужить отечеству, — ответил я лысому старичку и заглянул ему в глаза, похожие по цвету на мокрую мышиную шерсть.
— Молодец, — просипел седенький доктор, — отечеству всегда служить приятно.
— Конечно, — согласился простодушно я. — Вы, ваше превосходительство, эту приятность чувствуете.
— Гм, — гмыкнул генерал и грозно уставился взглядом мне в лицо.
— Отечеству служить очень трудно, а надо, — выдержав пристальный и грозный взгляд генерала, поправился я громко. — Что ж, послужу ему!
Генерал со звездой на груди отвел взгляд от меня и откинулся к спинке кресла, потом опять подался вперед и что-то шепнул своему соседу, высокому, с длинным лицом и седыми усами полковнику. Тот, выслушав генерала, улыбнулся и слегка кивнул головой, как бы говоря: «Так, так, ваше превосходительство».
— Послужите, послужите, голубчик, — проговорил господин с черными баками, — за государем служба не пропадет.
— Не знаю, — наивно вздохнул я. — Постараюсь, ваше степенство, чтобы моя служба не пропала — была полезна родине.
Физиономия лысого генерала опять набухла злобой, стала малиновой. Он откинулся назад, рыгнул:
— Государь — глава отечества!
— А земля, по которой я хожу? — спросил я простодушно, с улыбкой. — По ней и государь ходит, значит, она… — Я был зол в эту минуту не меньше генерала, и мне до болезненности хотелось говорить колкости, издеваться.
Члены комиссии переглянулись. Лица их передернулись и стали как бы расщепленными.
— Разве земля в отдельности, без государя, не может быть мне отечеством? — резанул я.
Под лысым генералом, длиннолицым полковником и господином с черными баками заскрипели кресла. Выражения их глаз стали мутны, потом колючи, как ножи, вот-вот пронижут меня насквозь. Я перестал улыбаться и стал внимательно наблюдать за ними.
«Что они сделают мне? Ничего, — думал я. — Посадят в тюрьму? Пускай сажают. Тюрьма все же лучше фронта… Могут послать на фронт? Не страшно. Они и так пошлют».
Генерал со звездой и генерал с лысиной не выдержали моего насмешливого взгляда, опустили глаза, засопели и постучали пальцами по краю стола, выражая этим гнев и презрение ко мне. Я следил, как их лица сделались багровыми. Сейчас разразятся бранью. Господин с черными баками наклонился к седенькому старичку доктору и что-то прошамкал ему, тот ухмыльнулся, поморгал глазками и, бросив на меня короткий взгляд, зевнул.
— Ваше превосходительство, — обратилась Ерофеева к лысому генералу, — позвольте мне сказать несколько слов об этом солдатике. Солдат Жмуркин у нас в лазарете замечательная личность…
— Вижу. Это в каком же смысле? — взглянув на Ерофееву, спросил настороженно генерал.
— Жмуркин читал Канта, и не один раз, — пояснила серьезным тоном Ерофеева, и эта добрая женщина остановила внимательный взгляд на мне.
В ее добрых и материнских глазах я прочел: «Помолчи, не возражай этим людям… О нашем лазарете и так говорят как о рассаднике крамолы».
Кровь отлила от лица лысого генерала, нижняя губа отвисла от удивления; он улыбнулся.
— Канта? Эммануила Канта? — Генерал осклабился больше и окинул удивленно-язвительным взглядом меня. — Эммануила Канта? — повторил он громко, с визгом.
— Так точно, ваше превосходительство, — отчеканил я. — «Критику чистого разума» и другие работы этого философа!
— Любопытно! — проскрежетал генерал со звездой. — Любопытно! Ха-ха! — хохотнул он и лег туловищем на стол, вытянул тонкие губы и пошевелил ими, словно он поймал леденец и стал обсасывать его.
Господин с черными баками фыркнул. Смущенно улыбаясь, Ерофеева поглядывала на меня. Я заметил, что она была довольна моим ответом председателю комиссии. Хихикал и седенький доктор, потирая морщинистые руки.