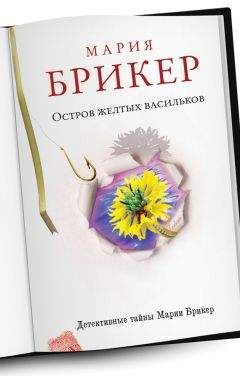Алексей ответил весело, с такой же искренней, и простой, и благодарной улыбкой:
— Не знаю точно, отец. Может быть, через полгода.
— Ну, хорошо, приезжай через полгода. Только обязательно с георгием. Всетаки серебряная штука.
И Семен Максимович обратился к матери и сказал ей серьезно:
— Хорошего сына вырастили мы с тобой, мать. Умеет ответить как следует.
И мать улыбнулась отцу сквозь слезы, потому что действительно хорошего сына провожала она на войну.
На вокзале провожали Алексея Павел и Таня. Павел крепко пожал руку товарища и сказал:
— Только одно прошу: вернись оттуда человеком.
Таня улыбалась Алексею мужественно, но глаза у нее были печальные, и она все оглядывалась и сдвигала брови. А потом, когда ударил третий звонок, она сказала с горячим смятением:
— Дай я тебя поцелую, Алеша!
Павел выбежал из вагона, а Таня не прощальным поцелуем поцеловала друга, а с жадным размахом закинула руки на его шею и прижалась к его губам дрожащими горячими губами, потом глянула ему в глаза и шепнула:
— Помни: я тебя люблю!
И снова побежали скучные и тревожные костромские дни — однообразные, как пустыня, и бедственные, как крушение. Уже перестали люди мечтать о мире и перестали говорить о поражениях.
Так проходили месяц за месяцем.
В начале зимы, когда уже крепко зацепили морозы за декабрьский короткий день, привезли в город Алешу. В здании женской гимназии разместился специальный госпиталь для контуженных. На его крылечко и выходил погуливать Алеша.
Ему недавно вынули осколок снаряда из-под колена, и он ловко дрыгал перевязанной ногой, высоко занося костыли из простой сосны. С ним рядом сидели на крылечке, ходили по тротуару, кричали и смеялись контуженные.
У Алеши сейчас счастливое детское лицо, но иногда его взгляд останавливается и с напряжением упирается в противоположные дома улицы, что-то старается вспомнить. К нему нарочно выходит и приглядывается молодая пухленькая женщина-врач Надежда Леонидовна, бессильно оглядывается на других больных и говорит:
— Что мне с ним делать?
Алеша, опираясь на костыли, двигает плечами, топчется на одной ноге, смеется и с усилием говорит:
— Аббба!
Надежда Леонидовна со слезами смотрит на веселое лицо Алеши, на вздрагивающую мелко и быстро голову, на потертый, изодранный халат:
— Милый, что мне с вами делать?
Подходит небритый, рыжий больной в таком же халате и помогает врачу, как умеет:
— Поручик! Сообразите! Черт его знает! Смеется!
Алеша и на него смотрит с улыбкой, но соображает только о чем-то радостном и детском. Он не слышит человеческих слов, он не узнает своего города, он не помнит своей фамилии. Только в одной области он что-то знает и о чем-то помнит. Каждое утро он рассматривает свой старый коричневый френч и на нем защитные погоны, на которых одна настоящая звездочка и две намазанные чернильным карандашом. С такой же любовью он рассматривает и шашку, совершенно новую, с золотым эфесом, с георгиевским черно-желтым темляком. Он счастливо улыбается, глядя на шашку, и любовно говорит:
— Абба!
И потом с особенной силой и улыбкой:
— Табба!
У него есть память о чем-то и какая-то веселая забота. Он радовался и прыгал на костылях, когда Надежда Леонидовна принесла в палату зачиненный и отглаженный его френч с новыми золотыми погонами поручика, но ничего, кроме «табба», он и тут не сказал.
Только через две недели, в воскресенье, Павел Варавва, проходя мимо бывшей гимназии, узнал Алешу и бросился к нему:
— Алексей! Алеша, это ты?
Алексей быстро повернулся на костылях и серьезно, внимательно посмотрел на Павла, засмеялся детским своим смехом:
— Абба!
Его голова мелко дрожала, но он не замечал этого дрожания. Склонив голову к поднятым на костылях плечам, он с детским радостным любопытством смотрел на Павла. Павел нахмурил брови, его начинало обижать это безразличное любопытство:
— Алексей, что с тобой? Ты ранен? Чего ты смеешься?
У Алеши в глазах вдруг пробежала мгновенная большая тревога. Он весь сосредоточился в остром беспокойном внимании, его лицо сразу побледнело, голова задрожала сильнее. Он неловко повернулся на костылях, беспомощно оглянулся по улице и застонал что-то неразборчивое и энергичное. Павел, наконец, догадался, что Алеша не может говорить, и обнял его за плечи:
— Алеша! Это я — Павел! Павел Варавва! Ты узнаешь меня?
Алеша успокоился и затих, но не мог оторвать взгляда от лица Павла, смотрел на него, о чем-то долго и туго думал. Потом он грустно улыбнулся и поник головой, прошептав:
— Табба!
Павел быстро смахнул набежавшую слезу и побежал в госпиталь. Алексей поднял голову, спотыкаясь, повернулся и с хлопотливой торопливостью заковылял за Павлом.
В большей пустой комнате Павел уговаривал Надежду Леонидовну:
— Да. Его отец здесь живет. И мать.
Алексей остановился и улыбнулся врачу. По Павлу скользнул прежним напряженным взглядом и отвернулся, видимо отгоняя какие-то неясные и мучительные образы. Надежда Леонидовна глянула на Алешу с любопытным состраданием:
— Он вас не узнал?
Алеша выслушал ее вопрос, затоптался на костылях, снова мельком взглянул на Павла и зашагал к окну.
У окна он остановился, и его неподвижный взгляд замер на какой-то точке на улице. Павел ответил:
— Не знаю. Кажется, он начал узнавать, а потом забыл. Это можно вылечить?
— Я надеюсь, что это пройдет. Вы его хороший товарищ? Друг? Это очень плохо, что он вас не узнал…
— Скажите, можно к нему отца или мать?..
— Я боюсь, что он и отца не узнает. Здесь, видите ли, больница. Знаете что? Далеко отсюда до его дома?
— Далеко. Через весь город.
— Все равно. Давайте мы его свезем домой.
— На извозчике?
— Конечно. Знаете что? Завтра наймите извозчика и приезжайте. Когда родные дома?
— Да все равно. Я скажу.
— Хорошо. Заезжайте в двенадцать. Я сейчас дам вам деньги.
Алеша ехал на извозчике оживленный и веселый, но Павла не узнавал и даже не обращался к нему. Кажется, больше всего он был доволен, что одет не в халат, а в свой потертый френч и шинель. Его шашку держал в руке Павел, и дорогой Алеша все трогал ее рукой и улыбался.
У ворот своего дома Алеша охотно и ловко спрыгнул с пролетки и очень обрадовался своей удаче, оглянулся на пролетку и сказал:
— Табба!
Потом показал пальцем на шашку в руках Павла и тоже сказал:
— Табба!
Он совершенно сознательно направился к калитке. Перед калиткой только на миг задержался, потом стукнул сапогом, и она открылась. Перепрыгнув через порог, он оглянулся на Павла и быстро начал взбираться по ступенькам крыльца. В дверях показался Семен Максимович. Алеша поднял лицо, улыбнулся ласковой, радостной улыбкой и сказал негромко, душевно, не отрываясь от отца взглядом:
— Та… татеццц!
Но после этого он упал в обморок. Костыли загремели по ступеням крыльца, а сам он медленно сложился, как будто осторожно сел на колени. Его голова перестала дрожать и спокойно склонилась к золотому погону поручика.
Поправлялся Алеша очень медленно. Ему разрешили бывать дома и даже ночевать. Надежда Леонидовна сказала матери, посетив Алешу на дому:
— Пусть больше видит и узнает. Побольше впечатлений.
Дома Алеша почти не сидел на месте, он быстро передвигался по комнате и по двору, заглядывал в каждую щель и все пытался о чем-то рассказывать, но понимал, что у него мало слов, и умолкал, грустно улыбнувшись. Слова восстанавливались у него по случайным поводам, но сначала приходили только в общем, что-то напоминающем комплексе звуков. Он говорил сначала «изизсткв» вместо «гимназистка», «тузыка» вместо «музыка», «бабед» вместо «обед». Только слово «мама» он говорил правильно с первого дня, как только пришел в себя после обморока и увидел склонившееся над ним лицо матери. Тогда же он узнал Павла и страшно этому обрадовался, все смеялся, все показывал на друга и кричал:
— Тавел Рававва! Тавел!
В эти дни интересно было видеть его счастливое оживление и в то же время замечать, что для него не нужны стали и непонятны обычные знаки любви и нежности. Когда мать поцеловала его после того, как он пришел в себя, он с удивлением посмотрел на нее, потрогал пальцем щеку и улыбнулся:
— Мама!
Он гораздо быстрее учился понимать чужие слова, чем говорить, и все время приставал к отцу, совершенно забыв о суровой его недоступности и молчаливости, просил его говорить.
Семен Максимович серьезно ему отвечал:
— Что я буду тебе говорить? Ты половины все равно не поймешь. Вояка! Вот лучше ты расскажи, как ты заслужил эту штуку.