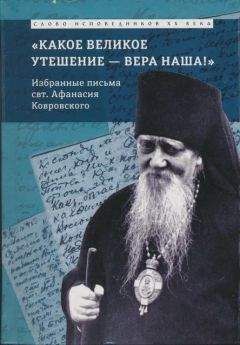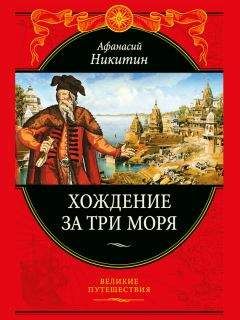Михаил Авксентьевич, в широких трофейных очках, подаст в барабан первый сноп, ловко разрезав перевясло ножом. Молотилка, работавшая до этого несколько минут вхолостую, сразу зарокочет натруженно и глухо, словно превозмогая себя; лошади посильнее натянут постромки и вскоре перейдут из рыси на шаг.
И вот уже из-под барабана потечет в одну сторону тоненьким ручейком зерно нового урожая, а в другую вместе с половой и пылью поползут целые вороха золотисто-желтой ржаной соломы. Две женщины в низко, по самые глаза повязанных косынках ловко подхватят их на длинные осиновые носилки и, чуть покачиваясь из стороны в сторону, понесут на улицу.
С каждым часом работа будет разгораться все сильней и неостановимой. И когда мы приедем к молотилке с первым сегодняшним обозом, на нас вначале никто даже не обратит внимания. Мы тут же воспользуемся этим: торопливо разгрузим возы, потом привяжем волов в тени возле коновязи и, опасливо поглядывая на Василя Трофимовича, побежим к лошадям. Коногоны, успевшие к этому времени накататься на дубовых слегах до головокружения, немного поважничают, но потом в общем-то охотно уступят нам место.
С трепетом и замиранием в душе возьму я вожжи из рук самого Миталя, прищелкну батожком и помчусь по кругу, стараясь догнать едущих впереди мальчишек, хотя и понимаю, что этого никогда не может случиться.
И каждый раз мне кажется, что вслед за нами мчится по кругу и июльское, уже поднявшееся высоко солнце. Оно то слепит нам глаза, то светит в выгоревшие за лето добела затылки, то отбегает вдруг в сторону, чтоб поиграться веселыми зайчиками, на мелькающем приводном колесе…
Василь Трофимович, конечно, незамедлительно обнаруживает нас на слегах, выходит из клуни весь запыленный, потный, но не ругается, а лишь внимательно наблюдает за конным кругом, должно быть прикидывая про себя, кому из нас можно будет доверить лошадей через год-два, когда нынешние коногоны окончательно окрепнут и начнут ходить на жатву наравне со взрослыми мужчинами…
Жатва и молотьба длятся недели две-три. И все эти дни мы без устали подвозим к молотилке рожь, вволю катаемся на слегах, помогаем матерям на току крутить ручные веялки и даже умудряемся во время обеда поиграть в прятки возле островерхих, похожих на крыши деревенских хат скирд.
Взрослые не очень-то нас и останавливают. Они и сами иногда делают себе передышку, собираются в кружок на ворохах зерна, смеются и подшучивают друг над дружкой, а то и затевают песню. Сил на молотьбе уже растрачено много, и их надо как-то поддерживать и обновлять…
Поля между тем потихоньку пустеют. Еще день-два и мы с радостью докладываем Василю Трофимовичу, что ехать больше на жнивье незачем — ни одного снопа там не осталось. Василь Трофимович хвалит нас за работу, велит распрягать волов и отпускает по домам.
Несколько дней мы до изнеможения купаемся в реке, играем в лапту и в «высокого дуба», лишь теперь до конца поняв, как мы все же устали за время жатвы…
Но отдых этот недолгий.
Как только умолкнет за колхозным двором молотилка, так почти в тот же вечер пройдут по селу бригадиры и, «загадывая» нашим матерям на работу, строго и серьезно накажут и нам:
— Завтра по колоски!
Слух этот тут же побежит от дома к дому, намного опережая бригадиров. Мы начнем готовить к завтрашнему дню мешки, заново искать исколотые на стерне ботинки, сговариваться друг с другом, как будем работать.
Утром мы собираемся возле школы суетливой неуправляемой оравой.
Учителя с трудом успокаивают нас, хотя и сами не очень спокойны в этот шумный, давно ожидаемый день. Одеты они совсем не по-учительски, в обыкновенные рабочие платья и какие-нибудь старенькие, изношенные туфли. Руководит всем сбором наша мать, поскольку она учительница ботаники и отвечает не только за школьные огороды, но и за такие вот походы на колхозную работу.
На поле нас встречают бригадиры. Они быстро, без особых разговоров определяют задание каждому классу и исчезают до вечера по своим бригадирским делам.
Широко рассыпавшись цепочкой по полю, мы занимаем небольшие участочки и зорко выискиваем на них колоски среди колючей, еще не примятой дождями стерни. Первые шаги даются нам легко, будто играючись, работа еще не кажется работой, мы весело шутим и перекликаемся по всему полю. Но чем дальше уходит наша цепочка от дороги, тем все заметней и заметней стихают ребячьи голоса и переклички.
Стерня больно царапает нам руки и щиколотки ног, спина начинает болеть, а по щекам и лбу скатываются первые капельки пота…
Все чаще нам приходится распрямляться, чтоб вытереть этот пот, дать хоть небольшой отдых спине, а заодно и посмотреть, далеко ли до края поля. И вдруг мы замечаем, как оттуда навстречу нам движутся, собирая колоски, совсем уже древние старики и старухи. Для другой колхозной работы они давно не пригодные, а вот по колоски вышли, хотя никто их особенно и не заставлял. Многие из них опираются на посошки и палочки, но идут споро, почти не разгибаясь, за долгую жизнь привыкшие к любой самой тяжелой работе…
Равняясь на них, мы тоже начинаем идти побыстрее, попроворней, приноравливаемся к колючей стерне, терпим и боль, и жару, которая становится к полудню, казалось бы, совсем нестерпимой.
Мешки наши наполняются, бугрятся, и вскоре мы относим их к дороге и ссыпаем в общий, все поднимающийся над стерней ворох.
Со стариками и старухами мы встречаемся где-нибудь на середине поля, на пригорке.
Они останавливаются, пристально смотрят на нас, стараясь распознать, чьи мы, кому из их сверстников доводимся внуками, а то и правнуками. От этих ласковых, но чуточку завистливых взглядов нам становится немного не по себе, боязно и почему-то совестливо, и мы готовы убежать в какой-нибудь перелесок или лощинку возле дороги. Но старики и старухи удерживают нас, просят:
— Давайте еще разок пройдем, внучата.
С бригадиром или даже с учителем мы могли бы поспорить, доказывая, что все колоски за нами собраны, но перед стариками и старухами робеем и опять послушно рассыпаемся цепочкой. Колосок к колоску, и к краю жнивья мы набираем их еще по целому мешку…
Старички еще пристальней смотрят на нас и не то журят, не то хвалят:
— Вот так, ребятки…
Вечером Лев присылает на поле несколько пароконных подвод, на которых стоят высокие, плетенные из ивовых прутьев кузова. Мы дружно загружаем их колосками и всей гурьбой сопровождаем до самого колхозного двора, до глиняных токов.
Спустя неделю, когда мы соберем колоски на всех полях, мужчины перемолотят их цепами в клуне, женщины зерно отколосуют, перевеют на ветру и ссыплют пудовыми «мерками» в мешки.
Потом эти мешки перевезут в громадный, крытый железом, амбар, который стоит рядом с сельсоветом. Уже готовясь в школу, мы и раз, и другой заглянем в его широкие просторные засеки, и как радостно нам будет думать, что там рядом с другими зернами лежат и наши, вымолоченные из колосков…
А когда в колхозном клубе соберутся взрослые, чтоб отпраздновать окончание жатвы, то нам покажется, что среди их разговоров, веселья и песен хорошо различимы и наши, пусть тоненькие, но твердые детские голоса.
Ой у поли витэр вие,
А жыто половие…
* * *
Летние дни, хоть и длинные, но бегут быстро, незаметно. Не успеешь оглянуться, а уже август, уже опять пора думать о школе, готовить книги, тетрадки. Год от года мы все взрослеем, все больше и больше помогаем матерям по хозяйству и в колхозе, все дальше уходит от нас война, все реже встречаются ее следы…
Сосновыми иголками и дубовыми листьями давно засыпаны в Малых горах окопы, давно исчезли из колодезного журавля танковые гусеницы, давно не сидят в городе на железнодорожном мосту нищие. На нашей улице один за другим появились новые добротные дома под железом и шифером взамен старых, порушенных войною. В городе построена новая железнодорожная станция, новая водокачка…
Многое, кажется, забыто из того послевоенного времени, многое ушло в далекое безвозвратное прошлое… Но каждый раз, когда мы приезжаем с детьми в родное село, мы водим их и на старые окопы, и к братской могиле на кладбище, и в город к железнодорожному мосту, показываем в деревенском клубе фотографии ста четырех человек, не вернувшихся с войны.
А зимними холодными вечерами мы собираемся в нашем обновленном доме, садимся за стол и поем из старых, бережно хранимых тетрадей песни и частушки. Дети внимательно, не перебивая, слушают нас, и мы радуемся этому их вниманию.
Мы рассказываем о нашем послевоенном детстве, о том, как мы учились, росли, чтоб они все это тоже знали, помнили и после, через многие годы, передали своим детям…
Петровна говорит, будто у Манечки с головой что-то не ладится. Только неправда все это. Манечка ведь жизнь свою всю до капельки помнит, а с больной головой разве возможно такое.