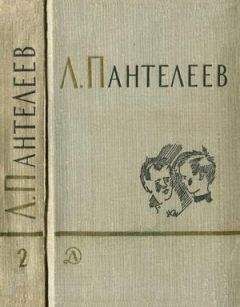Я нагнулся. И тут он мне ловко пришпилил двумя булавками левый погон и двумя булавками правый.
— А теперича, — говорит, — бежим.
— Куда? — говорю.
— А куда? — говорит. — Ясное дело, куда: к Буденному.
Ох, товарищи!.. Ну, знаете, я чуть не заплакал. Ей-богу, я сел на землю и встать не могу.
— Браток! — говорю. — Братишка! Зыков, — говорю, — неужели свой?
— Свой, — говорит, — честное слово… Вставай, — говорит, — побежим к Буденному.
— Нет, — говорю, — погоди… Не могу.
— А что? — говорит. — Почему не можешь?
— А у меня, — говорю, — в животе какая-то карусель начинается.
Понимаете? У меня в самом деле что-то ужасное начинается в животе. Начинает, я думаю, таять сургуч. Потому что как будто огнем начинает мне жечь и горло, и грудь, и особенно самое брюхо. Все, понимаете, кишки во мне начинают как будто плясать и как будто рваться на мелкие лоскутки. И больно. Такая боль, что сказать не могу. И на ноги встать не могу.
«Фу, — думаю. — неужели от пули спасся, а тут от такой гадости помирать? Нет, — думаю, — не хочу помирать».
И хочу, понимаете, встать на ноги. Через силу встаю на колени и падаю снова.
— Нет, — говорю, — шалишь! Встанешь, так тебя перетак!
И опять, понимаете, встаю на колени. И опять падаю.
— Ах, — говорю. — Дрянь какая!
Вы подумайте: буденновец на ноги встать не может.
«Ну, — думаю, — что ж… Значит — кончено».
— Значит, — говорю, — давай попрощаемся, товарищ Зыков.
А он говорит:
— Ладно. Попрощаться мы после успеем. А ты, — говорит, — не обидишься, если я тебя на руках понесу?
— Нет, — говорю, — это не стоит. Это, — я говорю, — смысла нет меня на руках нести. Все равно мне каюк.
— Да брось, — говорит. — Ну просто у тебя в животе телеграмма зудит.
— Какая, — говорю, — телеграмма?
— А та, — говорит, — которую ты давеча сшамал.
— Вот, — говорю, — охламон! Вот чудик! Это же не телеграмма. Это пакет. Это секретное письмо к товарищу Буденному, которое, понимаешь, я вез и которое не довез. Я, — говорю, — ворона. Я съел важнейшие оперативные сводки своей дивизии. Меня, — говорю, — расстрелять за это мало.
Ну, я, понимаете, все ему рассказал.
— А теперь, — говорю, — оставь меня, за ради бога… Беги, пока жив.
А он — вы подумайте! — ничего мне на это не сказал, а берет меня прямо в охапку, кладет меня, как мешок, на плечо и шагает со мной в кусты.
А потом из оврага вон. А потом через кочки-пенечки бегом, понимаете, как припустил… Даже ужас! Лошади, понимаете, так не бегают.
Я говорю:
— Зыков! Тебе тяжело, наверно?
— Невидаль, — хрипит. — Я, — говорит, — и не с таким бегал.
Я говорю:
— Ты отдохни…
Мне, понимаете, все-таки неудобно как-то на человеке ехать.
— Ты отдохни, — говорю, — а потом опять поедем.
— Не гуди, — отвечает. — До леска вон того добежим, а там посмотрим.
А лесок, я гляжу, не близко. До леска того, понимаете, версты две.
Ну, мы так хорошо с ним скакали, что минут через десять были уже в лесу.
— Тпру! — говорю. — Приехали.
Зыков меня опускает на землю, и я — вы представьте себе! — спокойно встаю на ноги.
Вот ведь чудо какое!
А это, вы знаете, пока я на Зыкове через поле скакал, у меня в животе все помаленьку умялось. И стало как будто полегче. Как будто не так чересчур больно.
— Ну, что ж, — говорю, — давай побежим дальше!
А Зыков говорит:
— Нет. Погоди… Не могу.
— А что? — говорю. — Почему не можешь?
— А я, — говорит, — все-таки не лошадь! Я не могу без отдыха.
Вижу — действительно: вспотел парень.
Ну, мы тут сели с ним под высоким деревом: я растянулся в траве, а Зыков достал кисет и стал закуривать трубочку.
Я говорю:
— Все-таки, Зыков… Я не понимаю: кто ты такой?
— Я? — говорит. — Я — продажная шкура. Я, — говорит, — за английский шинель Мамонтову продался.
— Ох, — говорю, — ты же врешь, Зыков!
— Ну, — говорит, — может, и вру. Меня, — говорит, — это верно, мобилизовали. Я не своей охотой четвертый месяц у белых служу.
И тут он мне, понимаете, рассказал все…
Как он приехал с германского фронта домой. Как у него дома хозяйство погибло. Как он жену после тифа похоронил. Как он, представьте, у попа в работниках жил. И так далее… И как его после насильно забрали в казаки, дали ружье и велели стрелять в большевиков.
— Стреляй, говорят, и пороху не жалей! Потому что, говорят, большевики не люди. Они, говорят, понимаешь, — враги человечества…
Я спрашиваю:
— И ты — стрелял?
— Нет, — говорит. — Я прикладом.
— Как, — говорю, — прикладом? Значит, ты убивал?
— Честное слово, — говорит, — одного только человека… И тот наш офицер. Подпоручик Гибель.
— Это какой, — говорю, — Гибель?
— А тот, — говорит, — который тебя по щеке ударил.
— Как? — я говорю. — Мать честная! Когда ты успел?
— А я, — говорит, — его в околотке… в сенях… прикладом. Пока ты там пирамидон кушал.
Ведь вы подумайте, какой ловкий парень! Он этого подпоручика с одного маху прикладом положил. Помните, доктор спросил, кто там орет? Так это Гибель орал. Зыков его в это время под лавку запихивал.
— Я, — говорит Зыков, — в этих сенях, между прочим, и погончики тебе раздобыл… Нет, — говорит, — не бойся. Не с покойника. Там у доктора китель висел. Так я с этого самого кителя. Ведь ты, — говорит, — теперь знаешь кто? Ты теперь — доктор.
— Фу, — говорю.
Я говорю:
— Зыков! Чего ж ты, братишка, тогда дурака валял? Чего ж ты со мной ругался?
— Ругался? — говорит. — А ты что — захотел, чтобы я целовался? Чтобы я тебя «дорогим товарищем» называл? Так нас бы с тобой тогда, дорогой товарищ, на одной березе повесили.
— Верно, — говорю. — Верно, Зыков! Ах, ну и ловкий ты парень, Зыков!
А он говорит:
— Да! У меня теперича такой вопрос: расстреляют меня, скажи, у ваших или нет, если я туды перемахну?
— Да брось, — говорю. — Ты что — генерал? Или ты полковник?
— Нет, — говорит, — я — нижний чин.
— Ну, — говорю, — чего ж нам тебя стрелять? Мы расстреливаем врагов, капиталистов, а ты кто? Ты же не капиталист? Ты же не с буржуазного класса?
— Я, — говорит, — таких слов не понимаю. Но я, — говорит, — окончил приходскую сельскую школу. Два класса. А после батя меня в пастухи отдал.
— Во! — говорю. — Значит, мы с тобой одного звания. Я тоже в пастухах воспитывался. Да что, — говорю, — я! У нас вся армия с пастухов, да с маляров, да с каменщиков. У нас, — говорю, — тебя примут во как! Свой парень! Мужик! Где же тебе иначе служить, как не в буденновской армии?
— Верно, — говорит. — Мне, — говорит, — в казаках служить неподходящее дело. Я, — говорит, — это давно о Буденном мечтаю. Мне, понимаешь, ужасно охота его поглядеть. Какой он такой, Буденный? Ты его видел?
— Да, — говорю, — видел. Но только — на стенке. Портрет его у нас в штабе на стенке висел. На белой лошади.
— А что, — спрашивает Зыков, — он — с офицеров бывших?
— Ну да! — говорю. — Ты что — сдурел? Ведь он же командует цельной армией.
— Значит, из генералов?
— Да нет, — говорю, — из бывших батраков. Представь себе — нашей губернии мужичок. Да, впрочем, — говорю, — сам увидишь! Если мы до Луганска дойдем и я Буденного разыщу, я тебя обязательно с им познакомлю.
— Знаешь что? — говорит Зыков. — Давай пойдем тогда поскорей, поищем дорогу.
— Пойдем, — говорю.
А сам, понимаете, и встать не могу. Развезло.
Зыков тогда меня поднимает, и я кое-как шагаю. Шагаем мы через лес и выходим на такую веселую опушку. И помню — выходим мы на эту веселую опушку, Зыков и говорит:
— А скажи, — говорит, — на коего лешего ты нашего часового тюкнул?
Я говорю:
— Как тюкнул? Я, — говорю, — его не тюкал. Это его один сумасшедший, наверно, угробил.
И только я это сказал — вы подумайте! — из кустов выходит мужик. Тот самый сумасшедший мужик, который меня, вы помните, напугал и в которого я с браунинга целился.
Идет он навстречу — лохматый, рваный, и опять, вы подумайте, улыбается. И опять он чего-то бормочет и чего-то шипит.
Я испугался. Стал. Но виду не подал.
Я говорю:
— А-а! Знакомая личность.
— Это кто? — спрашивает Зыков.
Я говорю:
— А это тот самый, который вашего караульного камнем убил.
Потом говорю:
— Ты что же это, братишка, по чужому пачпорту людей убиваешь? А? Меня, знаешь, из-за тебя чуть за нос не повесили. Чуешь? Ты, — говорю, — зачем это вздумал людей убивать?
А он отвечает:
— Да, — говорит. — Убивал и убивать буду. Я, — говорит, — вас всех изничтожу, мамонтово племя.
И вижу — глядит мне на левое плечо. А там, понимаете, на левом плече, у меня погон сверкает.