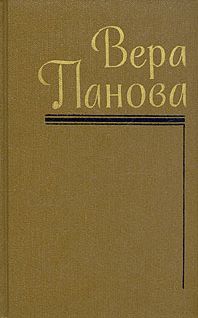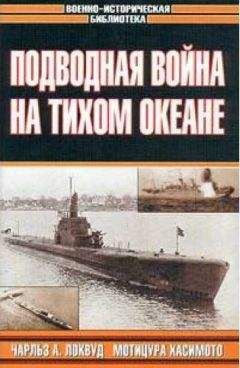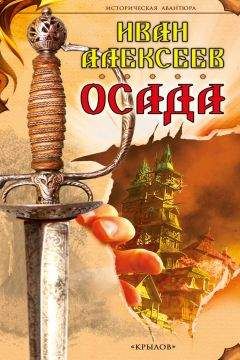В конторе Мортранса на столе горела керосиновая лампа, лежали гросбухи и сидел красивый старик с белоснежной узкой бородой. Белоснежными и узкими были и руки его, лежавшие на раскрытом гросбухе.
Он стал спрашивать, я отвечала. Его интересовали разные вещи: каковы на юге виды на урожай, есть ли уже в Ростове троллейбус, слышала ли я оперу "Катерина Измайлова"? Спросил, за что осужден мой муж - я же спросить его не осмелилась.
Так я и не знаю, кто он был, и, конечно, корю себя за то, что не дозналась; но, как и многое другое, это непоправимо и никакими домыслами тут не поможешь. Кем угодно мог он быть, духовным сановником либо светским, беспартийным либо коммунистом, и какое, в сущности, это имеет значение для кого бы то ни было... В этой пустыне погибали одинаково эти и те...
Цыгане уже разошлись, когда я возвращалась из конторы Мортранса.
Моя цыганка подошла ко мне.
- Свидание будет происходить, - сказала она, - в Кемском лагере, это совсем рядом с тем домом, где ты сняла угол. При свидании, - сказала она, - будет комендант, но это ничего! - Цыганка согнула палец и постучала косточкой сперва себя по лбу, потом по доскам, у подножья которых я сидела. Она давала понять, какого она мнения о коменданте, который будет надзирать за нашим свиданием.
Так оно и оказалось, это было одно из самых тупых лиц, какие я видела в жизни. Он сидел за особым столиком у двери той комнаты, где происходило свидание, и все время что-то рисовал карандашом на листке бумаги, слушая наш разговор. Мы говорили свободно, стесняясь его так же мало, как деревянного дивана, на который нас усадили. Нет, он нам не мешал нисколько, этот бедный комендант. Но буду рассказывать по порядку.
Мой муж приехал с Соловков на другой вечер после цыган. Я издали увидела его на палубе - он в любой толпе был на голову выше других, рост его был 186 см... На нем было его черное кожаное пальто и серая кепка, в которых его увели из дому в ночь на 12 февраля 1935 г.
Конвойные сделали попытку не дать нам приблизиться друг к другу, но тотчас же, без наших просьб, отказались от этой попытки. Даже не помешали мне идти рядом с ним до ворот Кемского лагеря.
У этих ворот нам пришлось расстаться до следующего дня. Мы уговорились, что предоставленные нам 10 часов распределим так: три дня по два часа и четыре дня по часу.
Тогда, в начале, нам показалось, что это поистине безбрежное время, что мы - обладатели несметного богатства, и мы были счастливы - в последний раз!
На другой день в полдень я пришла к этим воротам одна. Я принесла все, что могла, - всяческую снедь из "Гастронома", жареную картошку, глиняный кувшин с вишневым вареньем, несколько буханок хлеба. Часовой указал на избу неподалеку от ворот. Я вошла в большую комнату. И когда, мой ушедший невозвратно, я вспоминаю места наших свиданий, я прежде всех светлых мест, украшенных зеленью садов и лазурью моря, вижу эту комнату в нищей избе на территории концлагеря. У двери ее сидел и рисовал тот самый комендант, перед окном сидели две женщины и мужчина, на полу - цыгане, а на деревянном диване - мой Борис в своем кожаном пальто.
Женщины перед окном оказались сестрой и матерью заключенного, сидевшего с ними у столика. Мать была глухая, дочь громко повторяла все, что говорил сын. Они стеснялись своего крика и были очень несчастны.
Но цыгане были великолепны. Они расстелили на полу цветную скатерть и пировали от всей души. На скатерти были наставлены тарелки с жареными курами и южными плодами - виноградом, грушами, пунцовыми помидорами. Молодой цыган в шубе достал нож и один за другим разрезал арбузы, и все они ели, и пили, и чокались с воодушевлением, очевидно видя в этой совместной трапезе высшую красоту и радость свидания. Мы с нашей жареной картошкой были, конечно, жалки рядом с ними.
- Боря, - сказала я, - ты не знаешь, за что тут эти цыгане?
Он знал и объяснил мне. Они решили самоопределиться и выбрали себе своего цыганского короля. Вон тот цыган - король, а другой - его премьер-министр. Моя красавица-цыганка оказалась супругой премьера, а некрасивая - королевой. А этот парень и девушка - принц и принцесса. Ну, и вся эта мелюзга - тоже королевские дети, высочества.
Мы поговорили о своих детях, ожидающих в Ростове моего возвращения, и о том, чего-чего только, господи, нет на свете!.. Поговорили о беглых, якобы кишащих вокруг Кеми. Муж рассказал, как он сам собирался бежать с Соловков на плоту, как они с другим заключенным строили плот, но когда он был уже построен, товарищ мужа испугался и отказался бежать. "И у меня, сказал Борис, - не хватило духу пенять ему, он уже доходил и вскоре умер от чахотки..."
Мы разговаривали, комендант рисовал, цыгане ели и пили, те трое у окна кричали о своих делах... В общем, эта плачевная комната являла картину полноты жизни, никто не стал бы этого оспаривать... Жизни с горючими слезами, ползающими детишками, янтарными грушами, куриными ножками, торчащими из жующих ртов. Ах, с каким аппетитом они жевали, с каким размахом чокались. И вдруг звон, гром, вскрики - это зарыдала девушка с огненными глазами, упав головой на стол. Что-то запрыгало по полу, что-то разбилось. Но почти сразу рыданья прекратились, и возобновилась степенная, почти благоговейная трапеза.
Такая невинная радость - досыта накормить любимого человека - эта радость была мне дана на считанные дни, и то по особому соизволению - мне просто выпал счастливый билет, что перст судьбы отметил мое заявление в ворохе других... Не потому ли, что оно было написано самыми простыми словами, без всяких попыток растрогать?.. Москва ведь слезам не верит, сказано давным-давно...
Первые два часа пролетели как одно мгновение. Уже в конце первого часа мы поняли, что наше богатство - мираж, что не успеем мы оглянуться, как окажется, что ему конец. Так и было, но все же спасибо судьбе за эти часы...
Я приходила каждый день и приносила еду, однажды мне посчастливилось раздобыть десяток свежих яиц, в другой раз - даже мяса, так что я смогла принести Борису бифштекс. Он говорил, что уже и мечтать перестал о такой пище.
Он попросил, чтобы я перед своим отъездом передала ему денег, так как по почте они идут очень долго. Я обещала с легким сердцем - деньги ведь лежали у меня в чулке...
Но за день до отъезда я чуть было не провалилась с этим делом...
Я пришла на свидание, не чуя недоброго. И вдруг комендант приказал мне войти в смежную комнату, а там меня ждала рослая дивчина, которая объявила, что должна меня обыскать.
Вошел комендант и подтвердил, что я должна дать этой гражданке меня обыскать.
- Оружие есть? - спросила дивчина.
- Ну что вы! - сказала я.
- Деньги? Письма? - приставала дивчина.
- Ничего нет, - соврала я, и вдруг меня осенило - надо идти напролом: - Есть деньги, - сказала я.
- В лифчике?
- Нет. В чулке.
- Товарищ комендант, - позвала дивчина. - Они говорят, у них в чулке деньги.
- Покажите, - сказал комендант. Я достала деньги и паспорт и протянула дивчине. - А зачем вы это спрятали?
- Видите, меня предупредили, - сказала я, - что тут кругом бродят беглые. Если бы они отобрали у меня деньги, мне бы и домой не доехать.
- Это у нас есть, - признал он хмуро. - Ну ладно, идите.
- Паспорт-то хоть отдайте!
- Отдай им всё, - приказал он дивчине. Она отдала.
В соседней комнате меня встретили испуганные глаза мужа: он уже знал, что в этот день всех приехавших на свидание обыскивают. Я его успокоила и передала ему деньги.
Между прочим, они ему были нужны, чтобы заплатить долг. Дело в том, что на свидание его привезли за плату.
Вот как это было: он отдыхал после обеда, и вдруг его позвали: "Вахтин, на свиданье!" Он пошел, ему сказали: "Пять рублей за проезд!" У него не было. Вдруг он увидел Третесского. Тот себя все время чувствовал перед товарищами виноватым, так как имел слабость подписать при следствии все нелепые обвинения. Теперь, увидев Бориса и узнав, что его вызывают на свидание, он сказал: "Не говори Вере, что я сознался". Борис на это сказал: "Давай пять рублей!" У Третесского деньги нашлись, и он дал.
- Боря, - сказала я, - они же с тебя и за обратную дорогу потребуют.
- Ну уж нет, - сказал он, - я мог еще заплатить за то, чтобы меня отвезли на свидание. Но платить за то, чтобы меня везли обратно на каторгу, - нет уж, этого не будет.
Из этого ответа я поняла, как невыносимо ему живется на каторге из-за этой его гордыни и непримиримости. Ах, всегда и везде легче живется нестроптивым, смирным, со всеми соглашающимся. А мы с ним никогда такими не были, вот и обошлась с нами жизнь так, как обошлась.
Осталось рассказать о прощании - последнем, потому что больше мы не встречались.
Как я купила билет, и как трудно мне было ему об этом сказать, и как мы простились в этой комнате, зная, что завтра я уже не приду сюда.
Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб, я знала, что он думает о самоубийстве, и он потом писал мне в Ростов, что его поразило именно то, что я ему перекрестила лоб... Но мы ведь всегда всё знали друг о друге...