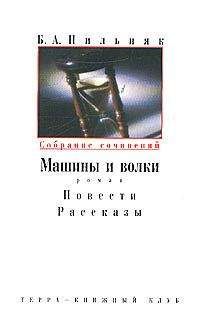Теперь она командовала полком, и полк был отчаяннейший… Батько взглянул на нее тоскливо, длинно — встал и растворил окно. Вошел вестовой, сказал.
— Поймали двух евреев из подозрительных. Что прикажешь?
Батько ответил:
— Вешать надо жидов! — Помолчал. — Вешать надо эту нацию!.. Ты, братушка, налей нам по стаканчику, — спирт заводский… И еще надо вешать баб!
Выпили по стакану спирта, и вестовой ушел. За окном стояли тополи, небо было до неестественности синим. Рядом выла собака, и рядом же пели песню. Батько налил еще стакан, выпил. И тогда на него напало веселье, он взял гармошку и пошел на улицу. У полисада толпились повстанцы, — батько раздул меха гармоньи и засеменил вкруг иноходью, пиликнул на гармонике залихватски, тряхнул кудрями, — ему навстречу выплыл партнер по плясу. Запели «Яблочко»… Батько поглядывал вокруг самодовольно и наивно. Повстанцы благоговели.
Ходили долго по улицам с песнями и гармошкой, разыскивали спирта, — хоть батько и не пил больше, пьяный от ночи. И ночь поистине была прекрасна, когда неминуемо каждый должен чувствовать себя весенним и ледоходным. Река с каждым часом прибывала на аршины, уходила из берегов, шумела деловито рыболовами, перелетными птицами, рыбьим плеском. У реки батько плакал, втаптывал в землю свою шапку, бил себя в грудь и орал о прекрасной жизни, об анархизме, о «щирой Украине», о добрых запорожских сечевых временах.
К утру в городке начался еврейский погром, всегда страшный тем, что евреи, собираясь сотнями, начинали выть страшнее сотни собак, когда собаки воют на луну, и гнусной традиционностью еврейских перин, застилающих пухом по ветру улицы.
Батько вернулся домой на рассвете. Жена сидела за столом, ноги на стул, — писала поспешно что-то в тетрадь, брови были сжаты жадно. Батько, как требовали запорожские традиции, свалился спать на потник, подсунув под голову свой же полушубок.
Вскоре пришли часовые, сказали, что явился иностранец, хочет говорить с батько. Маруся приказала ввести. В этих ростепельных полях, в проселках, в бунтах, в деревенской вольнице — непонятно как мог возникнуть американец, в кепи, в круглых очках, в широком сером пальто, — и желтые его ботинки блистали, точно они были только что с магазинного прилавка. Но иностранец этот был невелик ростом, неказист, смугл и сразу напоминал какого-то очень знакомого, хоть и редкого зверька. Он снял кепи и шаркнул ногой.
— Мне надо батько по очень важному делу, — сказал он. Маруся оторвалась от дневника, взглянула строго, присмотрелась внимательно, взгляд ее стал сосредоточенным. Она ответила нескоро, вновь опуская голову к дневнику:
— Батько работал ночь, он спит. Присядь, братущка. — Иностранец спокойно сел. Молчали долго. Тогда Маруся спросила, не отрываясь от дневника:
— Вам по какому делу? Вы откуда?
— Из Америки.
— How do you do? — спросила по-английски Маруся.
— Thank you very much. Вы говорите по-английски?
— Да. Вы по какому делу?
— Я анархист из Америки, из Нью-Йорка. Мне очень важно повидать батько. У меня научная работа.
— Это еще что за работа? — спросил батько, поднимая голову с тулупа. — Марья, дай квасу!
— Вы проснулись, батько? Вы мне очень нужны. Я ради вас приехал из Америки, из Нью-Йорка, — сказал иностранец. — Я русский эмигрант, моя фамилия — Волин. Я…
Батько потянулся, зевнул, сказал скучливо:
— Докладывай, в чем твое дело. Выпей водки.
— Спасибо, я не пью. Мое дело должно заинтересовать вас…
— Бабе можно остаться?
— Да, пожалуйста… Я уже отвык говорить по-русски, а она говорит по-аглицки, — она поможет.
— Ты по-английски говоришь? — спросил удивленно батько.
— Говорю, — нехотя ответила Маруся.
— Ну, говори твое дело, братушка.
— Я, видите ли… — Но то, что говорил и делал анархист Волин… будет концом этого рассказа о половодьях…
Бывают по веснам утра: солнце во мгле и нет холода после ночи, только сырость, туманность, над миром тишина, тревожный полусон, мир притих, и только грачи кричат; это ночь (и зима) борются с днем (и весной) и стали на бивак в борении. Такая пустынность в мире! Этими биваками побеждает тот, кто идет вперед, — и все же в такие утра бывает беспомощно, нет другого слова: кто ты? что ты? зачем?
…День шел лентяем, пословицей: «весенняя пора, поел да и со двора». И скоту и людям так приятно
было, в лености, неспешности, месить сапогами грязь. Потом петухи откричали заполденный уповод, помычали к вечернему водопою и весенней воле коровы, — и зачертили к вечеру небо вот-вот только что прилетевшие стрижи. Воздух, время и мысли развеивало далеко за околицы. И за околицей стоял красноармеец, тульский, степенный, в мочальной бороденке. Он стоял на часах. И когда из-за земли пополз ледяной осколок месяца, красноармеец стал изредка постреливать в него из винтовки, долго и пристально целясь. Мимо из поля прошел другой красноармеец, он сказал:
— Ты что, товарищ, расстреливаешь народное достояние?
Первый ответил:
— А это я, товарищ, панику пущаю!.. — и опять нацелился в месяц.
Днем по селу развешивали вывески — вол исполком, штаб энной дивизии, на школе — «изба-читальня»; на многих воротах висели приказы, воззвания и еще афиши о большом митинге-концерте. Рано утром к штабу приваливала толпа — вот этих, местных, не туляков и рязанцев, в папахах, иные с чубами, безбородых и длинноусых. Они заламывали шапки на затылки, потрясали винтовками. Их оратор кричал комиссару дивизии:
— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печенка, гроб)!.. Не жалам!..
Тогда заматерщинила вся эта сотня людей, залилась сизой кровью рож, запотела, загрудилась быками у боенных ворот. Подъехала тачанка, оратор влез на нее, усатый, немолодой, злобнорожий (хоть в обыденках, должно быть, добрейший человек), махал своей овчинной шапкой — и, если б был здесь посторонний зритель, он усмотрел бы в этих людях, в их лицах, одеждах и рожах, — хороший материал к картине из времен Запорожской Сечи…
Опять кричал оратор:
— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печенка, гроб)… Не жалам!..
И тогда рядом с ним возник человек, молодой, — в красноармейском шлеме, с револьвером в руках, — у этого лицо было крепко обтянуто кожей, глаза были острые и дерзкие и, должно быть, он был интеллигент. И он сразу начал, — возведя в небывалейшую степень, — с селезенки, гроба, бога, оставив мать, как малодействующее средство:
…— Гроб, печенка, ствол, слон, — вы проливали кровь, а мы в поездах ездили, гроб, ствол, слон? — вы, гроб, проливали, ствол, кровь, слон!..
Усатый посмотрел удивленно, сотня смолкла в восхищении, — рожа усатого стала добреть, рожа усатого стала восхищаться, усатый опустил в восхищении шапку, — молодой все навинчивал гробы, слоны, стволы, усатый стал пригибаться, стал сползать в восхищении на корточки. И вот усатый выпрямился, шапку бросив в тачанку, — усатый ударил себя в грудь, и усатый сказал краткую речь:
— Братушки, — он — наш мать-перемать!.. Братушки, возьмем его к себе в комиссары?… Братушки, он — наш!..
Вскоре сотня ушла к своему куреню со своим комиссаром, приходившая потому, что она не желала коммуниста-комиссара и ушедшая потому, что коммунист-комиссар перематерщинил ее командира… А этот комиссар, вернувшись к вечеру от своего куреня в штаб к товарищам, первым делом прошел в сортир, чтобы, при помощи двух пальцев, вытошнить из себя самогон; потом он лег спать, не заметив, должно быть, весны, — и лицо его — юношеское — за момент до сна состарилось в страшную боль…
День шел лентяем.
В сумерки был митинг-концерт и трубы играли Интернационал, а потом от него в переулки потащилось «Яблочко». К вечеру привезли газеты, центральные «Известия», — к вечеру, пообвыкшие уже ко всему, девки собрались на холме у реки. В школе была избачитальня; дверь на блоке охрипла от суматохи, и люди входили и уходили, — в школе навсегда укрепились крепкие духи махорки, пота, овчины, и дым стоял столбом.
У двери на полу сидели трое: один объяснял другим фокус, как, имея рублевку (он и демонстрировал серебряной рублевкой) и имея обязательство отдать ее вот сейчас, все же с этой рублевкой остаться? — выяснилось так, — он говорил:
— Вот у меня, то-есть, цалкаш, а я его должен отдать тебе, потому как я у тебя занимал. А ты должен отдать ему, как ты у него занимал. А он должен мне цалковый, как занимал у меня. Вот, значит, я никому ничего не плачу, а цалковый остается у меня!
Собеседники его не поняли; сидели они на полу, чуть в сторонке от прохода, на корточках, тихо, никуда не спешили, и лица у них были скучливы. Фокусник начал снова, экспериментально:
— Вот руб. Я его тебе должон. Отдаю. (Отдал соседу)… Теперь ты должен ему, — отдай (тот отдал недоверчиво). Теперь он должен мне, я ему давал в заем, — отдай мне. (Целковый вернулся к фокуснику.) И выходит — никому я теперь не должен, а цалкаш у меня.