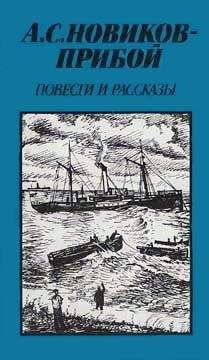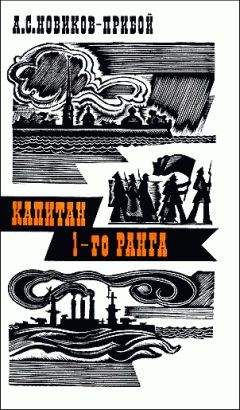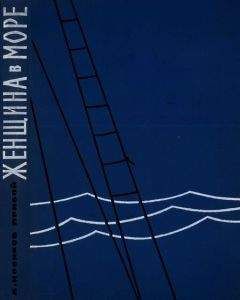Вот что я записал в свою тетрадь в тот вечер.
Детей привела Афросинья Матвеевна.
Тоня, в коротеньком платье, с красной лентой в кудряшках, увидев меня, радостно взвизгнула:
— Дедуска, дедуска! Я тебе принесла цветов, а Болька — валенье!
И бросилась обнимать и целовать меня.
Борька в матросском костюме, держа фунтовую банку за спиною, хотел, очевидно, сделать мне сюрприз, но Тоня помешала ему. Нахмурившись, он недовольно проворчал баском:
— Дергают тебя за длинный язык.
Я взял от него подарок и поставил на стол, а самого внука высоко поднял на руках.
— Спасибо тебе, Борис Савельевич, за гостинец. Давно я чай не пил с вареньем.
Напускная хмурь сползла с его загорелого лица — он сразу просветлел.
Потом Афросинья Матвеевна, улыбаясь, протянула мне корявую руку.
— Здравствуйте, сваток.
— Здравствуйте, дорогая свашенька. Присаживайтесь. Сейчас чем-нибудь угостимся.
— Спасибо.
Опрятная, в новом сарафане, в начищенных башмаках, она выглядела по-праздничному.
Дети наперебой рассказывали мне о своих впечатлениях — что случилось дома и что видели дорогой, пока шли ко мне.
Наконец мальчик серьезно заявил мне:
— Дедушка, я больше не хочу быть пожарным.
— Почему же это ты, товарищ Смирнов, вдруг решил отказаться от прежней профессии? — спросил я не менее серьезно.
Синие глаза загорелись детской мечтой.
— Хочу на инженера махнуть. Корабль устрою самый большой. Ты будешь на нем за капитана, а я буду машиной управлять. Мы наберем сто матросов, еще сто и еще. И поплывем далеко-далеко — по всем морям. И бабушку возьмем с собой. А папу и маму оставим. Им некогда: они все с портфелями бегают.
Тоня, вскинув голову в кудряшках, живо спросила:
— А меня возьмете?
Борис важно ответил:
— Не будешь капризничать — возьмем и тебя.
— Нет, Болька, никогда не буду. Знаесь что, Болька? Я буду всех чаем угощать и обедом. Ведь плавда, дедуска?
— Совершенно верно, — подтвердил я, обнимая Тоню.
Она спрятала лицо в мою седую бороду.
Сватья покачала головой, выговаривая нараспев:
— Ну и выдумщик, оголец! И чего только не наговорит!
Некоторое время спустя внучат угостили чаем и пирожным. Довольные, они отошли в угол столовой. Борис, разложив прямо на полу чистый лист бумаги, рисовал на нем корабль и, фантазируя, много болтал. Тоня внимательно слушала его и вставляла вопросы. А мы со сватьей продолжали сидеть за столом, опрокидывая по маленькой «русскую горькую» и закусывая. После трех рюмок она повеселела и стала словоохотливее.
Я решил спросить у нее:
— Как, свашенька, довольны вы своей снохой?
Улыбаясь, она собрала вокруг глаз сеть мелких морщин.
— И не стоит спрашивать об этом, сваток. Сами, поди, видите. Мне остается только бога благодарить. Послал он мне, наш создатель, на старости лет утешеньице. Где еще такую сноху сыскать? Что лицом, что умом, что приветливостью — тут уж ничевохоньки против не скажешь. Да-а…
Она говорила неторопливо и певуче, вкладывая в голос всю нежность любвеобильного сердца.
— Нужно мне спросить у вас, сваток: довольны ли своим зятьком? Хоть и до учености достукался он и на самокате разъезжает, а вышел-то из простых людей.
Я ответил:
— Раз моя дочь счастлива, то у меня нет никакого основания быть недовольным зятем.
Она радостно подхватила:
— Да, сваток, живут они дружно — всем на зависть. Нерасстанная парочка. Как придут домой — гуторят не нагуторятся. И слова-то у них все мудреные — не понять их мне.
Мы опорожнили еще по одной рюмке за наших молодых супругов. А потом приступили к чаю. Сватья пила чай из блюдца, звучно схлебывая. В промежутках рассказывала о сыне:
— Вторым он родился у меня. Первый — того Степаном зовут — тоже не плохой парень. Только тот больше по хозяйству пошел. А этот, Савелий-то, с малых лет все грамоту нюхал. Бывало, за три версты на село к учительше бегал за книжками. В поле поедет — обязательно книжку с собой прихватит. Зачитается, а работа стоит: сама не сдвинется с места. Покойник отец, царство ему небесное на том свете, допытается — сейчас же за волосы сына и ну его возить. Дело наше крестьянское — нужда во всем. Чего только отец не придумывал! И честью просил сына бросить эту окаянную грамоту, и колотил его, и самолично грозился учительше этой самой ребра поломать. Ничего не помогало. И стал Савелий вроде как в задумчивость впадать. А я, бывало, гляжу на него и слезы горькие глотаю. Ну-ка, думаю, да собьется парень совсем? Эх, кому свое дите не жалко! А вышло совсем не так: через книжки-то эти, может, и в разум вошел он, Савелий-то. Вот оно, сваток, как бывает на свете: не узнаешь, откуда счастье придет, откуда — горе…
Сватья, замолчав, стала наливать чай в стакан.
Я задумался над человеческой судьбой.
Вдруг Тоня с плачем бросилась к бабушке.
— Что с тобой, внучка?
Девочка, рыдая, жаловалась:
— Болька не хочет меня на мостик пускать.
— На какой мостик?
— Когда поплывем на палоходе. И назвал меня глупой девочкой.
Бабушка, качая головою, заговорила укоризненно:
— Ах он, пострел этакий! Ах, окунь красноперый! Да как он смеет сестричку обижать? Да я ему больше ни одной сказки не расскажу.
Она обняла Тоню и погладила по головке.
— Ну, уймись, моя ненаглядная крошечка. Разве плачет когда-либо звездочка на небе? Она только улыбается.
Тоня крайне удивилась такому неожиданному сравнению.
— Бабуска, я больси не буду плакать.
На ресницах ее еще дрожали росинки слез, а серые глаза, глядя на доброе лицо пожилой женщины, начали уже улыбаться.
— А ну-ка ты, василек синеглазый, подь-ка сюда.
Борис топорщится петухом, но все-таки приближается к бабушке нехотя, как-то боком.
— Я тебе разве не рассказывала сказку, как брат сестричку любил?
— Не-ет, — протянул Борька.
— Ах я, старая! Забыла, значит. Ну, сегодня вечерком напомни мне. Уважу я тебя, птенчик мой милый.
Борис запрыгал на одной ноге в угол столовой, где у него были разложены рисунки корабля.
Тоня бросилась к бабушке на колени, обняла ее и пролепетала:
— Бабуска, я тебя люблю больси всех.
Потом полезла ко мне на колени.
— Дедуска, я тебя люблю клепче всех.
Тоня спрыгнула на пол, несколько секунд смотрела то на бабушку, то на меня, озаренная вся какой-то новой мыслью. И вдруг с настойчивостью начала просить меня, чтобы я сел рядом со сватьей. А когда я исполнил это, девочка снова залезла к нам на колени, обняла бабушку и меня за шею и прижала к себе так, что наши головы соприкасались. Серебряным бубенчиком зазвенел, лаская слух, детский голос:
— Я вас обоих клепче люблю…
Раньше, до революции, когда на моих плечах красовались золотые погоны капитана первого ранга, а грудь была увешана орденами, я пришел бы, вероятно, в ярость от такой близости к сватье. А теперь это нисколько меня не унижало. Наоборот, я сам смеялся — смеялся просто и откровенно, охваченный таким радостным настроением, как будто душу мою посыпали яркими лепестками…
Да, я счастлив тем, что пустил глубоко корни на земле в лице своих милых внучат.
Раз я затронул свои семейные отношения, то нельзя еще не упомянуть и о первом моем зяте. Конечно, лейтенант Богданов не был казнен. Я думаю, что он избавился от смерти только благодаря Клавдии. Из тюрьмы его перевели в концентрационный лагерь, где он оставался до тех пор, пока продолжалась гражданская война. Выйдя на свободу, он ни разу не явился ни ко мне, ни к моей дочери, словно мы никогда не были роднею. Как он отнесся к тому, что жена бросила его и вышла замуж за матроса, иначе говоря, за его кровного врага, — я не знаю. Могу только догадываться, что он, вероятно, пережил глубокую драму. Может быть, это обстоятельство и заставило его так быстро исчезнуть с нашего горизонта. Четыре года мы не имели о нем никаких сведений. Наконец наш общий знакомый, бывший капитан второго ранга, показал мне под секретом письмо от Богданова. Оказалось — он поселился на одном из островов Ледовитого океана, женился на самоедке и занимается промыслом: летом ловит рыбу, а зимой бьет зверя.
V
Я только после революции убедился, что мы, правящий класс, не знали свой народ ни с хорошей, ни с плохой стороны. Для нас многомиллионная масса людей представляла собою, по выражению Лескова, «продукт природы» и ничего больше. Как работали они, как жили, о чем мечтали, какова внутренняя сущность была у них — мы никогда не задумывались об этом. Нам важно было только то, что они повиновались нам и сколько, в случае войны, мы могли бросить на фронт боевых единиц. Вот почему впоследствии, когда наступило время расплаты за наши грехи, многим из нас показалось, что началось страшное светопреставление.