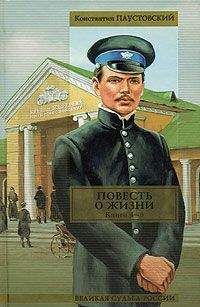Надо послать к нему за помощью. Он не даст холопам умереть черной смертью. Он спасет всех нас, братья, и ваших жен, и детей, и зеленые ваши поля». И послали холопы к тому жаворонку гонцов.
— Каких? — спросила вдруг хозяйка.
— Разных. Воробьев, ласточек и даже лысого дятла — того, что продолбил насквозь деревянный крест на костеле в Любартове. И вот, — Стась обвел всех лукавыми глазами, — прилетели в холопское господарство тысячи жаворонков, сели на крыши и говорят женщинам: «Вот вы, матери и жены, сестры и возлюбленные. Что вы дадите за то, чтобы окончилась эта война?» — «Всё отдадим! — закричали женщины. — Берите все, до последней крошечки хлеба». — «А раз так, — говорят жаворонки, — то сегодня же снесите на выгон за селом все вязальные и вышивальные нитки, какие у вас спрятаны по каморам». Женщины так и сделали. Среди ночи тысячи жаворонков слетелись на выгон, схватили клубки этих ниток, понеслись с ними к войску Янки Лютого и начали тучами летать вокруг этого войска, разматывать клубки и запутывать рыцарей нитками, как паук путает муху паутиной. Сначала рыцари рвали эти нитки, но жаворонки опутывали рыцарей все крепче, пока не упали те рыцари на землю и уже не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, только отплевывались шерстью, что набилась им в рот. Тогда холопы сняли с рыцарей латы, отобрали мечи, навалили рыцарей на телеги, отвезли на границу своей земли и сбросили там за рекой, в овраг, как мусор, что вывозят на свалку. А сам Янко Лютый наглотал столько шерсти, что посинел и задохся, на радость всем добрым людям.
Стась помолчал.
— Вот бы и нам, панове, — сказал он, посмеиваясь, — поискать того жаворонка с золотым клювом.
Мы ушли из халупы Стася к вечеру. Хозяйка пошла проводить нас до большой дороги на Люблин. Стась остался дома. Он стоял в открытых дверях халупы и смотрел нам вслед, пуская дым из трубки.
Хозяйка несла на руках ребенка и говорила, что Стась совсем не такой, как все, и что мы не должны на него обижаться.
На перекрестке мы с ней попрощались.
Солнце опускалось за Вепржем. Над умолкнувшими рощами и полями на смену солнцу подымался, серебрясь в глубине неба, серп луны.
Женщина протянула мне руку. Не знаю почему, но я наклонился и поцеловал эту шершавую руку, пахнувшую хлебом. Женщина не отняла руки. «Спасибо! — сказала она просто и подняла на меня спокойные глаза. — Приходите к нам непременно. Я напеку вам коржей, а Стась наловит рыбы в Вепрже».
Мы пообещали прийти, но на следующий день наш поезд отправили в Седлец, а оттуда — в Варшаву, и больше я не видел ни Стася, ни молодой женщины с ребенком. Сожаление об этом долго грызло мне сердце, сам не знаю почему. Может быть, потому, что у меня, как и у многих моих современников, не было в то время в жизни даже такого простого счастья, как у этой ласковой польской крестьянки.
Великий аферист
Во время одной из наших стоянок в Бресте к главному врачу поезда Покровскому пришел хромой подтянутый поручик в щегольском пенсне без оправы.
Поручик назвался Соколовским и рассказал весьма обыкновенную историю: он был ранен и отпущен из госпиталя на три месяца на поправку. Но так как у него нет родных и ехать ему некуда, то он просил принять его на эти три месяца простым санитаром на поезд. Чувствовал он себя хорошо, только немного прихрамывал.
Все документы у Соколовского были в порядке.
Главный врач согласился принять Соколовского и привел его к нам в «команду».
Мы, студенты, не любили офицеров и потому насторожились. Если бы это был прапорщик, то мы бы еще с ним примирились, но поручик являлся для нас воплощением кадрового офицерства.
С первой же минуты появления Соколовского в «команде» начались чудеса.
— Плохо живете, иноки! — сказал Соколовский громовым голосом. — Паршиво моете полы. Притащите ведро кипятку и ведро холодной воды, и я вас научу, интеллигенты, как надо драконить полы. А ну, живо! Два ведра воды, и никаких разговоров!
Никто не двинулся. Все молча смотрели на Соколовского.
— Гордые? — насмешливо спросил Соколовский. — Я сам гордый. Но вам я все равно покажу чертову бабушку.
Он снял китель с Георгиевским крестом и в одной белоснежной рубашке, перетянутой небесно-голубыми подтяжками, пошел на кухню. Оттуда он вернулся с двумя ведрами воды. Покрикивая на нас, чтобы мы подбирали ноги, он стремительно вымыл полы в вагоне до такой чистоты, что мы должны были скрепя сердце признать его мастерство в этом деле.
А затем начались вещи уже совсем непонятные.
Соколовский снял со стены гитару санитара Ляхмана, взял несколько аккордов и запел заунывную грузинскую песню. Потом он спел армянскую песню, после нее — украинскую, еврейскую, польскую, финскую, латышскую и окончил этот неожиданный концерт виртуозным исполнением «Пары гнедых» с цыганским «подвывом».
Оказалось, что Соколовский свободно говорит на многих языках и знает вдоль и поперек всю Россию.
Должно быть, не было такого города, где бы он не побывал и не знал бы в нем всех более или менее выдающихся местных людей.
Эти странные качества Соколовского заставили нас насторожиться еще сильнее, особенно после того, как он безукоризненно подделал рецепт с подписью доктора Покровского и его врачебной печатью, получил по этому рецепту в брестской аптеке бутылку чистого спирта и выпил ее в течение ночи.
— Берегитесь, друзья, — сказал молчаливый санитар Греков, тоже московский студент. — Судьба подкинула нам темную личность. Следует опасаться всяческих бед. Надо бы узнать, кем он был до войны.
В тот же день Романин прямо спросил об этом Соколовского. Соколовский прищурил красивые, подернутые наглым блеском глаза. Он долго рассматривал в упор Романина и наконец ответил с тихой угрозой в голосе:
— Ах вот как! Интересуетесь, кем я был? Кантором в синагоге. Раз! Глотал в цирке горящие колбасы. Два! Служил придворным фотографом. Три! И был, кстати, владетельным князем Абхазии Михаилом Шервашидзе. Довольно с вас этого? Или мало? Тогда не скрою, уважаемые коллеги, что я был еще гинекологом и запевалой в цыганском хоре у «Яра». Больше вопросов нет?
Все молчали. Соколовский простодушно рассмеялся и обнял Романина за плечи:
— Эх ты, рубаха! Да я просто был коммивояжером. Отсюда все мои качества. А мог бы быть таким же студентом, как ты.
Соколовский явно издевался над нами. Он старался казаться веселым, но побледнел от злости до того, что маленький шрам у него на губе стал совершенно прозрачным.
А чудеса между тем продолжались. В какую бы игру ни садился Соколовский играть — в подкидного дурака или польский банчок, — он всегда выигрывал. Вскоре