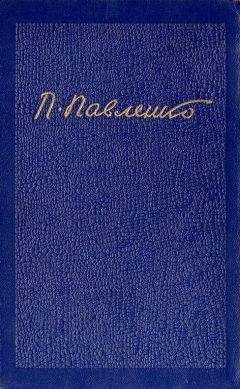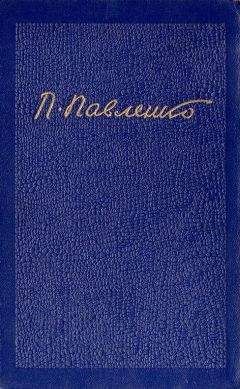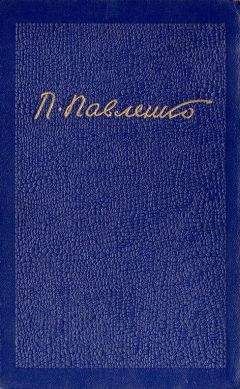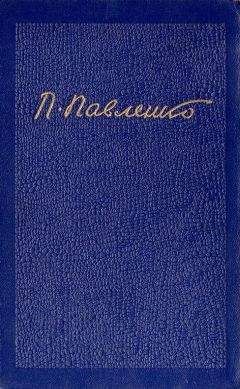Избиратели, сначала так радовавшиеся печам, потребовали либо переделать их, либо вовсе убрать. Орлову пришлось пережить немало огорчений. Кто-то даже потребовал разобрать: не с умыслом ли понаделали эти никуда не годные печки! И все то радостное рвение, с которым Орлов начал работу, теперь перерастало у него в кровную обиду.
Тем более что печник он был замечательный, до тонкости знавший «печную душу».
— Я вот у одного профессора ставил, — рассказывал он мне с обидой в голосе, хотя речь зашла теперь о приятных вещах, — четыре предмета было заказано: камин по-английски, чтоб как костер горел, с треском, с шумом, но отнюдь, брат, без дыма, отнюдь; второе — голландка с лежаночкой, на старинный манер; третье — плита, а четвертое — шведка. А тех шведок я сроду не складывал и, какой у них характер, не знал.
Ладно, сдаю плиту, сдаю голландку с лежаночкой, сдаю камин по-английски, складываю по его рисунку и шведку — на железном каркасе, белыми изразцами выложенную. Сдаю работу — отказ, не принимает. Это, говорит, простите, не шведка. Та петь должна. Взял он, понимаешь, скрипку и на басовой струне попиликал мне перед ухом: вот, говорит, какой у нее истинный голос. Это так, говорит, специально и делается для уюту, чтобы одинокий человек как не один чувствовал себя дома. Я даю ему свой аргумент. «Печка, говорю, — не баян, чтобы на ней романсы играть, печка имеет свою должность — обогревать». Нет и нет! Ах ты, ученая же твоя душа! Стал я ту шведку заново перекладывать, замучился, как домовой; сложил заново — не поет. Вот зараза! В третий раз начал. Два-три фокуса я в дымоходе устроил, кое-чего вроде свисточка примостил, поддувальце маленько перешил — запела. Правда, с басов сбивается, выше берет, но все-таки приятность имеется. Очень весело. Ну, правда, за настройку неточную не стал он спрашивать. Только, говорит, вы мне теперь камин переберите «под сверчка». То есть как это, говорю, под сверчка? А есть, он мне говорит, такая замечательная постановка «Сверчок на печи», и в театре сверчок по ходу действия верещит. От печки? Видать, говорит, от печки. Взялся я ему «сверчка» в камин вставлять. С неделю бился, что ты думаешь. То так захрипит, мать честная, будто кого душат в той печке, то сипеть начнет, а то хоть бы что — молчит, как проклятый. Ну, в общем и тут добился. Вставил сверчка. Сверчок и сверчок!.. Так он, профессор-то, расчет произвел и говорит: я, мол, еще сроду таких печников не видывал, и шведок с пением на свете, признаюсь вам, только одна — вот эта самая, а каминов со сверчком — один, вот этот самый. Я, говорит, вас проверить хотел. Тебе бы, говорит, Орлов, скрипки делать, ты, говорит, маэстро. Клянусь богом, так и сказал. Тут несколько из Москвы артистов было, певец один, на шаляпинской должности состоит, так он мне магарыч за того сверчка поставил. Вы, говорит, товарищ Орлов, чего-то нашли. На ваших печах, если с умом топить, «чижика» сыграть можно. С того времени, брат, так и пошло: орловские печки, да орловские печки! И в булочных ставил, и в санаториях, все характеры изучил. Мою работу сразу узнаешь — корпус красивый, не как вообще, а специальный вид имеет.
— В общем, я так понимаю, что ты им с пением печки понаставил? — прервал я его, чтобы вопросом своим приблизить повествование к основной теме.
— Вот именно! — радостно подтвердил он, точно я, вопреки его ожиданиям, легко решил очень трудную, сложную задачу.
— А они не одобрили?
— Да кому одобрять-то! Есть там одна активистка, Марья Петровна. «Что это, говорит, Орлов, твои печки, как мины замедленные, погукивают? Я все время, говорит, боюсь, не взорвались бы». А другая, старуха уж, а тоже в критику лезет! «Я, говорит, все нервы об твои печки попортила — все слышу, будто где-то молоко перекипело». Ах, боже ж мой! Молоко у ей перекипело!
И вот, перетерпев за свою непонятую оригинальность, решил тогда Орлов переложить все печки, лишить их индивидуальности и характера.
— Так что же ты скажешь? Эта самая Марья Петровна говорит: «Ну вот и слава богу, кто это вас подучил так класть печки, вот молодец так молодец!» Ты слышишь? Меня научили!
Да, репутация Орлова как печника была, очевидно, надолго в наших местах испорчена, и недаром он рвался теперь в какие-то степи, где гуси-лебеди, петухи и пчелы, до которых ему вот уже лет тридцать не было никакого дела.
— А в самом деле, — сказал я, — разве уж так необходимо, чтобы печь пела? Может, одинокому чудаку это приятно, а другим, согласись, ни к чему. Разные бывают вкусы, и хорошая печка — это в конце концов та, что хорошо греет.
— Я вас тут тридцать лет грею, и никто никогда не жалился.
Ему было, конечно, особенно неприятно, что его провал произошел в связи с выборами и что теперь о нем будут поминать как о человеке взбалмошном и несерьезном.
— А все дожди, — сказал он убежденно. — Это все от них. С дождем свяжись — не развяжешься. Я, когда дожди, беспокойный делаюсь. Нигде ж не тягнет: ни в дымоходах, ни в груде. И печки дымят, и люди сипят. Я это имел в уме, да забыл…
Дождь повис на окнах, и водяные червячки со скрипом побежали справа налево, будто дом накренился, как корабль.
Ветер бил в стены тяжелыми волнами. Двери вздрагивали, напрягались оконные стекла.
— Беда, беда, — бормотал в треть голоса уставший от тепла Орлов. — Большое недоразумение с этими дождями может произойти.
— Оставь ты, — стал я успокаивать гостя. — Ну, посмеется народ, позубоскалит, а через два дня и забудет… Главное, печки стоят, греют, а это — главное.
— Я не об печках, — ответил он озабоченно. — Я об выборах думку сейчас имею. Ведь я, милый, пять часов к тебе шел один. Во тьме, как во чреве китовом. И то дорога мне сколько годов известна. Партизанил я, разведчиком ходил, саперничал по этим местам. Другой бы ни за какие премии не пошел. Теперь чуешь, к чему подход делаю?
— Ничего, милый, пока не чую, и зря ты сегодня ко мне шел. Мог бы выждать погоду.
— Зря? Да ведь кому ж итти? Народ-то новый, только при свете разбирает, где что. Их пошли, ног потом не найдешь.
И только тут истинное беспокойство Орлова начало приоткрываться мне сквозь мутную даль его рассказа.
Замученный неудачными печками, терзаемый стыдом за свою репутацию, он валил на дожди все беды. В них одних он видел угрозу не только себе, но и делу вокруг себя.
— Грузовики не пройдут? — спросил я, думая теперь тоже уже не о печках, а о дне выборов, который приходится на послезавтра.
— И ни-ни. Только пеший. Теперь ты посчитай: в полночь конец голосовке, час на подсчет бюллетеней, так? Да пять часов с пакетом. Вот, значит, не ранее шести утра только наша цифра до областной комиссии и дойдет. И то — ты слушай меня — и то в случае, если именно я пойду. Понял теперь? Ну, то-то.
Оказывается, сегодня его избирательный участок предпринял опытную отправку сведений в областную комиссию конным нарочным и грузовой машиной. Орлов же, хотя ему ничего не было поручено, сам, по своей охоте, отправился пешью. Ни конь, ни машина не добрались. Пять часов, обшаривая дорогу руками, рискуя ежеминутно свалиться под откос, не шел, а почти полз он, ведомый страстным желанием возвысить себя в глазах тех, кто разуверился в нем благодаря проклятым печкам, и был рад, горд, доволен, что победил. Как всегда в таких случаях, желание поиздеваться над недругами непреодолимо клокотало в нем, ища новых поводов для раздраженной воркотни.
Теперь он вообразил, что завистники обязательно придумают послать кого-нибудь другого, а не его.
— А будь они неладны, слушай, я ж за три часа управлюсь, ежели на то пошло! Пойду грушевой поляной, понял? Тропкой спущусь в ущелье. На заду съеду. А ущельем мне — рукой подать.
Успокоенный счастливо придуманным выходом, он блаженно вздремнул у печи.
Грохот ветра и грустный голос дождя перекликались за окном. Загнув набок тонкие хвосты своих крон, кипарисы готовились прыгнуть в воздух. Боролись друг с другом кедры. Изгнанные из сухих закутков, к стеклам окон прижимались нарядные синички. И по-прежнему черной, страшной, забывшей свои сроки, была ночь.
— Ложись. Постелено, — сказал я, вставая.
— Ни боже мой. Сейчас пойду, — пробормотал он, не открывая глаз. — Электрического фонарика не дашь?
— Да ты, Орлов, просто с ума сошел! Чего ты второй раз итти вздумал?
Он встал, вздрагивая и устало потягиваясь:
— Они же, охламоны, подговорят еще какого мальчонку: иди, мол, обгони дядьку Орлова. Что ты думаешь! Загубят кого ни попало. Нет, уж я если взялся так взялся.
И, навалив на себя отяжелевшую шинель, он вышел. Все бежало под ветром. Говор горных потоков глухо пробивался сквозь пляшущий шум ливня. Казалось, в черную ночь сползает с неба еще более черное, густое месиво туч.
— Разве это природа? — и Орлов зло сплюнул неизвестно куда. — А у них одно в голове — голландки дымят. Да тут человек задымит… Тут человек может прахом пойти. Прощай пока! — и по звуку его тяжелых шагов я понял, что он отправился.