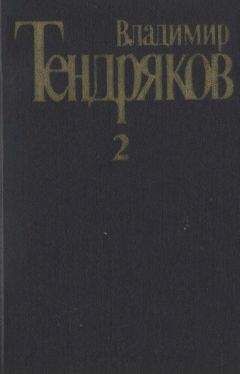И так далее, через каждые три слова — «не позволим!». А учителя молчат.
14
«Не позволим!» А что они собираются не позволить?
Я хочу, чтоб наши ученики лучше учились, меньше тратили сил и времени на учебу.
Не позволим?!
Я хочу, чтоб каждый человек еще в школе почувствовал святой закон коллективизма: один за всех, все за одного.
Не позволим?!
Я хочу, чтоб ребенок мог уделять время и для полезного труда, и для чтения книг, и для спорта.
Не позволим?!
Хочу, чтоб Сережа Скворцов, Федя Кочкин, миллионы таких, как они, стали духовно богатыми людьми, которым будут по плечу сложнейшие дела грядущих лет.
Не позволим?!
Да я окажусь преступником, если сробею перед этим начальническим окриком. Не позволите?! Ну, это мы еще поглядим, Раиса Порфирьевна и Степан Артемович!..
Я не считал, что метод, который предлагает Ткаченко, единственный, неизменный, своего рода преподавательская панацея. В последнее время я уделял ему больше внимания только потому, что хотел раскусить этот орешек. Искать универсальный способ преподавания — все равно что врачу искать лекарство, излечивающее от всех болезней. Пусть будет больше методов и приемов, пусть арсенал' школьного учителя станет богаче — вот чего я добивался, вот чего мне не позволяют!
За последнее время у меня выработалось особое чутье, какая-то чисто преподавательская интуиция. Шум в классе или, наоборот, напряженное молчание говорили мне много такого, о чем я прежде и не подозревал. И это чутье уже давно подсказывало, что слишком ровно идут уроки, что их однообразие начинает надоедать ученикам. Нужна какая-то неожиданность, встряска, которая бы расшевелила ребят.
Мой класс закончил работу над темой. По программе на эту тему выделяется тридцать часов. Все изучено, закреплено, проведены опросы, выставлены отметки — кажется, нечего топтаться на месте, следует идти дальше, начинать новую тему. Но кончен этап работы, и не отметить ли это событие, не преподнести ли встряску?
Я решил устроить что-то вроде поединка. Выйдут перед классом лучшие из лучших два ученика, в чьих знаниях не может быть никакого сомнения. Но одного багажа знаний мало — нужно, чтоб они умели по возможности интересно рассказать, нужно, чтоб они могли скупо и точно излагать свои мысли, нужно быстро ориентироваться, и самое главное — иметь собственный подход к материалу.
Урок — турнир, урок — смотр духовных сил и знаний. Весь класс до последнего ученика должен участвовать в нем.
Мне сказали: «Не позволим!» А я все-таки буду проводить этот урок!
В классе три ряда парт. Кто в каком ряду сидит, до сих пор не имело значения для урока. Но сейчас я объявляю:
— Первый ряд! Выбирайте одного человека на поединок! Выбирайте самого лучшего, за которого бы не пришлось вам краснеть.
И сразу же шум:
— Скворцова выбираем!
— Скворцов!
— Лучше Юрченко!
— Нет, Скворцов!
Второй ряд сразу же смекнул, в чем дело, начинает бунтовать:
— И нам выбирать?
— В том ряду два отличника — Юрченко и Скворцов! У нас ни одного!
— Соня, садись к нам!
— Пусть Юрченко пересядет!
Я подсказываю:
— За последнее время многие отвечали ничуть не хуже Скворцова или Юрченко.
Во втором ряду легкое смятение: головы вертятся в разные стороны, слышится тревожный шепот:
— Капустину, что ли?
— Федьку… Федька хорошо отвечал.
— Капустина быстрей говорит.
— Тш-ш-ш! Андрей Васильевич смотрит…
— Третий ряд, — продолжаю я, — станет судейским. Он будет решать, кто победил. Он должен выбрать старшего судью.
— Хомякова Васю!
— Верно, Хомякова!
— Он справедливый!
— Первый ряд, кто от вас?
— Скворцов!
— Хорошо, пусть будет Скворцов. Не возражаете?
— Не-е-ет!
— Второй ряд?..
— Кочкина! — выкрикивает Павел Аникин.
— Капустину лучше! — пищит слабенький девичий голосок.
— Чем она лучше?
— Девчонки всегда суют девчонок.
— Ты еще Бабина крикни.
— Кто за Кочкина — поднимите руки… Большинство. Выбраны на поединок. Скворцов и Кочкин. Судейский ряд, выбирайте старшего судью.
— Хомякова! Хомякова!
— Эй, Вася, садись ко мне на первую парту, вместе судить будем.
Рыжий, веснушчатый Вася Хомяков старается выразить на лице притворное безразличие, пунцовеет от гордости.
— Будем внимательно слушать ответы и запоминать, кто в чем ошибся. Советую для памяти записывать на бумажке, а когда начнется обсуждение, подняв руку, сообщить, что заметил. Понятно?
— По-оня-атно!
— Теперь несколько минут тишины. Пусть Кочкин и Скворцов посидят и вдумаются, с чего начать, как лучше приступить к рассказу.
И действительно, в классе наступает тишина — головы вертятся от Феди Кочкина к Сереже Скворцову, от Сережи к Феде Кочкину, легкий, напряженный шорох, откуда-то просачивается придушенный шепоток.
Эту тишину нарушил решительный голос Кочкина:
— Лучше сразу отвечать.
— Начинай, а Сережа пусть подумает.
Но самолюбивый Сережа тоже вскочил с парты:
— И я готов!
— Тогда идите оба к доске.
Заметно волнуясь, от волнения цепляясь карманами пиджаков за углы парт, Скворцов и Кочкин вышли к доске, стали друг против друга. Кочкин Федя — широкий, плотный, как всегда, один палец на руке перевязан замусоленной тряпочкой, одет бедно — застиранный пиджачок, на каждом локте по заплате, штаны пузырятся на коленях. Лицо у Кочкина широкое, обветренное, в раздавшихся скулах чуть приметная азиатчинка — эх, если б поединок был на кулаках!.. Сережа Скворцов на полголовы ниже Кочкина, но это противник самый сильный, за ним слава способнейшего ученика. Кроме того, этот тщедушный Сережа до болезненности тщеславен — он привык быть только первым. Сейчас его голубые глаза беспокойно бегают, узкое лицо бледно от волнения, однако стоит дерзко, выставив узкую, петушиную грудь.
Их волнение передалось всему классу: нетерпеливо ерзают за партами, возбужденно шушукаются, глядят напряженно округлившимися глазами.
— Кто будет первым отвечать? — спрашиваю я. — Отвечай ты, Сережа.
— Обождите, Андрей Васильевич! — раздается голос.
Вася Хомяков недаром заслужил славу справедливейшего человека, он неуклюже вылезает из-за парты с ушанкой в руках.
— Обождите. Не по правилам…
Подходит к Сереже Скворцову и протягивает сложенную ушанку.
— Тяни, — предлагает он. — Вытянешь бумажку с галочкой — будешь первым отвечать. Не вытянешь — первый Кочкин.
Сережка покорно запускает руку в ушанку, вытаскивает скрученную бумажку, долго ее разворачивает. А весь класс до последнего человека следит сосредоточенно, серьезно, словно решается не простой вопрос, кому первому отвечать, а судьба Сережи Скворцова.
— Пустая. Ничего нет, — объявляет Сережа.
— Ты, Федька, первый отвечаешь, — приказывает Хомяков. — Только обожди, не начинай, я на место сяду.
Кочкин взволнованно переступает с ноги на ногу. Десятки пар глаз сочувственно уставились на него.
Наш верховный судья, поерзав, устроился на своем месте, взглядом разрешил мне: «Можно». Я произношу:
— Тишина и внимание!.. Кочкин!.. На…
Но я не успел договорить. Несколько учеников из тех, кто сидел ближе к дверям, поднялись со своих мест. Следом за ними весь класс вразнобой зашевелился, с шумом повскакал на ноги. Кочкин, напружинившийся, словно приготовившийся к прыжку, обмяк, зябко поежился. В раскрытой двери, глядя в класс из-под полуопущенных век, стоял Степан Артемович. Коротким кивком он приказал классу садиться, строгий, прямой, сделал несколько шагов вперед. Я услужливо пододвинул стул. Он опустился на него, угрюмо нахохлился, сухо бросил:
— Продолжайте.
— Будем продолжать, — решительно объявил я. — Кочкин, начинай.
— Возьмем для сравнения такие предложения, — с хрипотцой от волнения, нарочито медлительно заговорил Федя, но сорвался и зачастил: — «Комната заполнилась запахом цветов, которые росли в скромном палисаднике». Если вглядеться в эти предложения…
А ученики въелись в него глазами. Сразу же обрушилась мертвая тишина. Только тревожный, напряженный голос Кочкина звучал в стенах класса. Кто-то трусливо скрипнул партой, у кого-то звонко упала на пол ручка. У Кочкина налилось кровью лицо. Чтоб отрешиться от всего, он закрыл глаза, с поспешностью, в паузах жадно глотает воздух. Его слушают так, как не слушали еще ни разу в классе, ни одна история с самыми невероятными приключениями наверняка не вызывала такого внимания.
Сережа Скворцов вытянулся у доски, глаза его впились в одну точку — в шевелящиеся губы Феди Кочкина.
Забыт нахохлившийся у окна директор, забыт я, возвышающийся над своим учительским столом, забыто все на свете, есть только Кочкин, рассказывающий об обособленных второстепенных членах предложения.