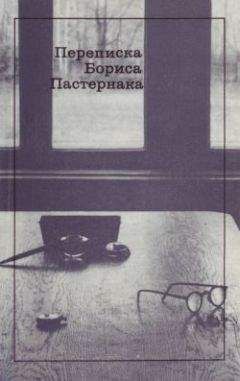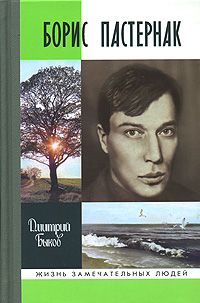Олеся Николаева
Николаева Олеся Александровна родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, эссеист; лауреат премий Бориса Пастернака (2002), “Anthologia” (2004) и “Поэт” (2006). Постоянный автор “Нового мира”. Живет в Переделкине.
РОЗА И АСКЕЗА
* *
*
Тугой ошейник из железа.
Шипы кровавые остры.
Всё так, ведь роза и аскеза —
у нас две сводные сестры.
Великопостного наркоза
вкусив, мутнеет голова.
Но роза алая, но роза
в своей реальности трезва.
Когда ж соблазна и надреза
и тли — угроз невпроворот,
одна аскеза, лишь аскеза
издержки на себя берёт.
…Так всем дадут: ханже — навозу,
новоначальному — страду,
а постнику подарят розу,
а оглашенному — звезду.
Баллада
Школьницей, девицей, птицей нездешнею,
Как ты сияла улыбкой безгрешною! —
Так и осталась в том давнем году —
Белою лилией в чёрном саду.
Что же потом с тобой сделалось? — ржавая
Музыка эта, ухмылка лукавая…
Так и порхала у всех на виду
Чёрною бабочкой в белом саду.
Ты ли сама или время проклятое?
Тучная, траченая и помятая,
Встала и загородила звезду
Ягодой волчьею в чёрном саду…
Так увядает и никнет несчастная
Грешная плоть, небесам не причастная,
Чая очнуться и грезя в бреду
Белою лилией в белом саду.
Так — неопознанную, безымянную
Похоронили с рогожею рваною,
Перекрестили тайком на ходу…
Что-то да вырастет снова в саду.
* *
*
Столько разных нитей у меня,
ни средь ночи, ни средь бела дня
не распутать шерсти, льна и шёлка,
ткани не соткать из мулине:
значит, мне кафтан не сшить и не
оседлать в нем сказочного волка!
А иные — встанут у реки
да свои завяжут узелки,
грузики там, коробки с червями.
И давай, давай себе удить…
Старики к ним станут подходить
и качать седыми головами.
А иным — и это все лузгой
видится: день прожит — и долой!
Сутки прочь — и кончено! И баста!
С дирижабля скинут весь балласт.
“Все пройдет”, — сказал Экклезиаст.
Даже и слова Экклезиаста.
Маски
1
На личико ты маску надевала,
к лопаткам ладила лебяжьих два крыла.
Но пух осыпался, постромка резать стала…
А маска — маска приросла!
А ведь кричали: “Ангел!”, “Коломбина!” —
поклонники — им не было числа.
Так что ж теперь от них — ни знака, ни помина…
А маска — приросла!
Лежат, никчёмные, пред бутафорской дверью
без ботала — колокола,
снегурка без руки. И разметались перья…
А маска — приросла…
Куклёнок без лица и часики без стрелки,
свеча без фитиля, без света зеркала.
И некто в маске здесь всё трогает безделки,
а маска — приросла.
Всё гладит, всё глядит на чашечку-сиротку,
кольцо без камушка и на ларец без дна.
И вроде там слеза бежит по подбородку…
Но маска благосклонно-холодна.
2
Ужасная, как повелитель тьмы,
с ощеренным оскалом беса,
с рогами чёрными, в лохмотьях бахромы —
пугать наёмников и самого Кортеса, —
вот маска для индейца! Вельзевул
что брат её. Храня свои угодья,
такая глянет лишь, и в панике — сутул —
бежит Кортес и с ним его отродье.
С прыжками, с гиканьем нестись за ними вслед,
и дротики метать и стрелы,
и прижимать к груди заветный амулет —
зуб крокодила пожелтелый.
И маску страшную почтить. И никого
не подпускать, оберегая…
…Ты тоже — супостата своего
разишь, мертвящим обликом пугая…
Холодная надменность, василиск
застыл в чертах… А вся эта шарманка —
и светский лепет, и жеманный писк —
для простодушных увальней обманка.
И так всю жизнь ты прожила — не та…
Но для индейца — всякий бледнолицый
дрожь чувствует и горечь возле рта
и отраженья своего боится.
3
На нищего, на замордованного
взгляну — и вспомню ненароком:
есть слух про принца заколдованного,
не он ли — в рубище широком?
А то — хмельная баба с улицы…
Но мне как будто это снится —
под видом пьяницы, кощунницы,
бывало, постница таится.
То гость придёт лукавый, ряженый:
там всё — там рожки под беретом.
А он — любезен, напомажен и
с гостинцем сахарным, с букетом!
…Пожрет кладбище ненасытное
того и этого — любому
сей навык ценен: очевидное
не принимать за аксиому.
* *
*
Я спрошу у отцов Египетских, чернецов Синайских:
разве слышно еще хоть что-то из песен райских,
глухоту одолевших злую?
Или пение это все зыбче, глуше
и одни прельщенные да кликуши
с небом накоротке, напрямую?
Да еще стихотворцы, прильнув к виденью,
говорят то с бесплотным духом, то с тенью,
тайнозрители, очевидцы.
Ах, недаром Бунин язвил на взводе,
что и ангел у нас — это что-то вроде
курицы, то есть домашней птицы…
Вот и ловишь слабые отсветы, отголоски,
след стопы, колею небесной повозки,
и сиянье в глазах младенца, и крик “Узнала!”
умирающей бабки — туда, сквозь крышу…
Или сон, в котором спор обо мне. И слышу:
— Искала, но не нашла.
— Нашла, чего не искала.
* *
*
Плакальщица Наталья
плачет, что муж ушёл,
жизнь не удалась, дочь мала, отец на подъем тяжел,
бедность, дождь, гололёд…
Поплачь и обо мне, — может, пройдёт.
Плакальщица Наталья
плачет, что жизнь под откос,
старость на носу, дочь родила, у отца психоз,
нужда, зной, смог, пот…
Поплачь и обо мне, — может, пройдет.
Плакальщица Наталья
плачет, что всё, конец:
внучка мала, дочь развелась, умер отец.
Все в этом мире — зло, зло и зло.
Поплачь и обо мне — почти уже и прошло.
* *
*
Какая цветущая сложность
у немощи — смешанный лес,
когда перед ней Невозможность
сияет, как Царство, с небес.
Она хитроумной тропою
пускается в путь по кривой,
цепляясь черницей слепою
за куст ежевики живой.
Прикинется волком от страха,
змее назовется змеей,
наестся и пыли и праха,