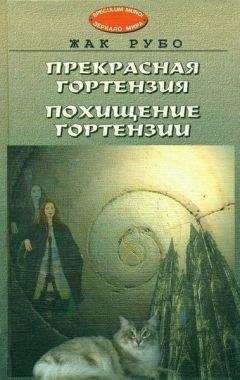Жак Рубо
Прекрасная Гортензия
Летом бакалейная лавка Эсеба открывалась в восемь утра. Зимой, впрочем, тоже. Но летом лавку открывал сам Эсеб собственной персоной: поднимал решетку, которая никогда по-настоящему не запиралась, выносил на тротуар коробки с овощами и фруктами, открывал их, раскладывал содержимое — помидоры, апельсины, персики, салат, бананы — практично и красиво, то есть самые гнилые запихивал в нижний ряд или на задний план, а сверху и спереди помещал те, что еще сохранили сколько-нибудь приличный вид. Закончив, таким образом, к полному своему удовлетворению, трудовой день, он занимал позицию на мостовой, между помойными баками, в нескольких шагах от остановки (по требованию) автобуса «Т».
Как только открывалась дверь магазина, или, самое позднее, как только вслед за этим раздавался лязг заржавленной решетки, на пороге появлялся Александр Владимирович и с царственной грацией прыгал на коробки, устраиваясь обычно среди лимонов, которые, по его мнению, выглядели здоровее, чем груши или лук. Там он возлежал в позе сфинкса, ожидая пробуждения мадам Эсеб, а главное — своей утренней порции молока «Глория». Ожидание это никогда не бывало чересчур долгим, поскольку Эсеб полностью отстранился от торговли и всю ответственность взяла на себя его супруга. У Эсеба же были другие заботы.
Мы воспользуемся этой краткой передышкой, чтобы набросать портрет Эсеба (когда я говорю «мы», то подразумеваю рассказчика или, вернее, рассказчиков этой истории, ибо всякая история предполагает не одного, а нескольких рассказчиков, ведь во всяком правильно построенном повествовании имеется великое множество мест и мозгов, в которых происходит что-то важное; только слабоумный романист всегда пребывает в одной и той же точке, то есть внутри самого себя, под собственной макушкой. Сам я, Жак Рубо, — лишь тот, кто водит пером, а точнее, гелевой ручкой «пилот», которая пишет очень тонко, на что указывает желтый ободок на крышечке, тогда как ручка с белым ободком пишет толсто; гелевая ручка стоит дороже, ну да ладно, — вот почему я говорю «мы», употребляя это местоимение из скромности. Впрочем, в данном романе, как вы скоро увидите, есть Рассказчик, — один из персонажей этой истории. Он появится во второй главе и будет говорить «я», как делают обычно рассказчики в романах. Но я прошу не путать его со мной, Автором).
Итак, чтобы набросать, если можно так выразиться, портрет Эсеба, мы воспользуемся этой краткой передышкой: в шестьдесят лет — в возрасте, который он сохранял практически до самой смерти, — Эсеб утратил интерес к в общем-то тривиальным проблемам бакалейной лавки и все заботы о ней возложил почти исключительно на мадам Эсеб и Александра Владимировича, чтобы посвятить себя другой деятельности, если и не более возвышенной, то, во всяком случае, более волнующей с его точки зрения.
Лавка Эсеба, основанная его отцом, Эсебом-старшим, находилась в широкой части улицы Вольных Граждан, на пересечении с крошечным отрезком улицы Закавычек, которую в то время перерезал пополам сквер Отцов-Скоромников. Улица Закавычек в этом месте очень узка, а улица Вольных Граждан напротив выступающего фасада церкви Святой Гудулы, наоборот, расширяется — ей приходится огибать церковь, чтобы влиться в центральную часть города, как она привыкла делать с незапамятных пор. Справа, по направлению к востоку (если мы встанем перед бакалейной лавкой, как обычно стоит Эсеб), находится перекресток улиц Вольных Граждан и Староархивной. Перекресток этот довольно-таки просторен, отчасти по причине вышеупомянутого расширения улицы Вольных Граждан, а также и потому, что дом, стоявший на углу, почти напротив Эсеба, состарился и сгинул, словно зуб, расшатавшийся по вине микробов и из-за отсутствия твердых убеждений. Обнажившаяся вследствие этого стена соседнего дома (с каркасом из потемневших балок в чистейшем старонормандском стиле) покрыта рисунками, надписями и объявлениями, ведущими между собой яростную борьбу за существование; среди надписей вполне предсказуемого содержания («Эмильена каждаму дает! Тибя видили в сквере, превет от Бебера!») есть и такое, несколько загадочное и вместе с тем меланхолическое признание: «Только я один понимаю Пюви де Шаванна!»
Муниципалитет, испытывая временные трудности с озеленением, посадил тут две маленькие, ничего не ждущие от жизни белые акации, которые плохо переносят выхлопные газы и делают вид, будто находятся в каком-то другом месте. И это им настолько хорошо удается, что даже создает опасность: дело в том, что движение по улице Вольных Граждан одностороннее, с запада на восток, то есть, по отношению к нам, слева направо; а по Староархивной — сверху вниз (так показано на плане города, однако для нас это выглядит как оттуда — сюда), или, если вы внимательно следите за нашими рассуждениями, с севера на юг. Так вот, машины беспечно подъезжают к перекрестку каждая со своей стороны, с уверенностью в своем превосходстве. Поскольку светофора здесь нет, а обе акации успешно прикидываются невидимками, то часто, особенно среди ночи, дело кончается аварией, треском, лязгом, скрежетом, нашествием полиции и «скорой помощи», а также взаимными обвинениями, от которых радуется сердце мадам Крош, консьержки из дома 53. Эсеба все эти волнения оставляли равнодушным.
Надо вам сказать, что улица Вольных Граждан, сама по себе полностью лишенная памятников старины, равно как и интереса — те же свойства отличают ее соперницу и перпендикуляр, Староархивную улицу, — связывает между собой два чрезвычайно притягательных для туристов района. Первый, на востоке, знаменит старыми дворцами из старых времен, старыми улицами с подновленными фасадами (улица Олеандра де Меандра, улица Плесси дю Армана — «писца и сочинителя», улица Пеана де ла Круладьера — «юриста», улица Эмиля Золя — «романиста с материалистическими взглядами», улица Элеазара де Брокур-Серсильи, графа де Шандевиля, и так далее, и тому подобное), старыми мастерскими старых художников, изысканными кафе-кондитерскими и садами с причесанной осенней листвой. Во втором, на западе, ближе к центру, пульсирует современная жизнь, в галереях нью-йоркской живописи на углах пешеходных улиц можно купить все полотна, залежавшиеся в Бронксе, там и сям красуются приглашенные городским советом клошары (наполовину — клошары-осведомители полиции, наполовину — полицейские, переодетые клошарами), поддельные поэты декламируют стихи, стоя у фонтана, юные музыканты и музыкантши на миниатюрных флажолетах и массивных виолах да гамба допоздна наигрывают прохожим элегические пьесы Марэна Марэ. Как сказано в путеводителях, старый квартал лучше осматривать утром, а современный — днем. А потому между двумя кварталами с утра до вечера не иссякает разнонаправленный поток: это снуют туристы, большей частью пешие. Дойдя, предположим, до нашего перекрестка, они останавливаются в нерешительности, достают из сумки, рюкзака или кармана план, останавливают такси, прохожих, машины, автобусы «Т» и спрашивают на чужеземных языках: «Пютипон, плиз?» или «Гъюго, битте?», затем радостно исчезают, устремившись за храм Святой Гудулы или свернув на улицу Закавычек, в сквер Отцов-Скоромников.
С точки зрения Эсеба, которой мы будем придерживаться в этой главе, туристы четко делились на две основные категории (помимо особых или пограничных случаев, жителей Шотландии и иже с ними): мужчины относились к категории I, женщины — к категории II. Категория I интереса не представляла. Категория II (женщины), в свою очередь, делилась на две подкатегории («Понимаешь, — объяснял он мадам Эсеб, — это вроде как овощи в коробках: бывает зеленая фасоль, а бывает горошек; горошек бывает обычный и высшего сорта; а высший сорт бывает сырой либо вареный, верно?» — говорил он мадам Эсеб, но та уже спала). Итак, в категорию II (женщины) входили Интересные (А), а также Неинтересные (В). Подкатегория IIВ (Неинтересные) интересовала его столь же мало, как и категория I (мужчины). Интересовался он исключительно Интересными (IIА), в число которых по зрелом размышлении включил еще особую группу Небезынтересных — на эту мысль его навел отец Синуль, горячий поклонник Николая Кузанского и, по словам Эсеба, «большой потешник»; эту группу мы обозначим как IIА.
Прекрасно, скажете вы, теперь остается узнать, по каким именно признакам Эсеб определял представительниц категории II как интересных (словом «вы» с этой минуты и до конца романа мы будем обозначать Читателя, портрет коего, обобщенный или составленный по описанию, украшает кабинет коммерческого директора нашего издательства и коему мы из почтения не решаемся тыкать). Ответ звучит просто: по возрасту, каковой по биологическим причинам, а также из предосторожности начинался с пятнадцати лет и не должен был превышать максимума в пятьдесят девять, то есть шестьдесят минус один — поскольку, как мы помним, именно шестьдесят лет Эсеб с некоторого времени решил считать своим неизменным возрастом. Мадам Эсеб тогда исполнилось пятьдесят девять, то есть опять-таки шестьдесят минус один, если наши подсчеты верны, а стало быть, она пока еще числилась в Интересных (впрочем, как раз в это время появился Александр Владимирович, и всю нерастраченную нежность мадам Эсеб обратила на него); но поскольку мадам Эсеб в отличие от мужа продолжала очень заметно стареть, она становилась явно Неинтересной; таким образом, она, можно сказать, была Интересной в историческом аспекте и Неинтересной в соотнесении с современностью и вследствие этого находилась вне игры, что вполне устраивало Эсеба с моральной точки зрения.