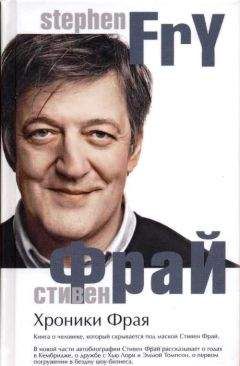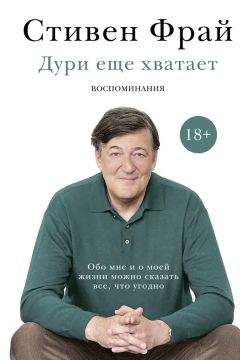Рейчел Джойс
Невероятное паломничество Гарольда Фрая
Посвящаю Полу, идущему со мною рядом, и Мартину Джойсу, моему отцу (1936–2005)
Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как раб, замысливший отчаянный побег.
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик, влача свою веригу…[1]
Письмо, которому суждено было все изменить, пришло во вторник, в середине апреля. Стояло обычное утро, пахнущее выстиранным бельем и скошенной травой. Гарольд Фрай, свежевыбритый, в чистой рубашке и галстуке, сидел за завтраком, держа неначатый гренок, и смотрел в окно кухни на подстриженную лужайку, стиснутую с трех сторон глухими дощатыми заборами соседей. В центре ее высился раздвижной шест, на котором Морин укрепила бельевую веревку.
— Гарольд! — крикнула Морин, перекрывая шум пылесоса. — Почта!
Ему подумалось, что неплохо было бы выйти подышать, но, кроме стрижки лужайки, заняться было нечем, а это он сделал еще вчера. Рев пылесоса захлебнулся и стих. Вошла жена с недовольным видом, неся в руках какое-то письмо, и села напротив.
Морин была худощавая, с аккуратной серебристо-седой стрижкой и энергичной походкой. Когда они только познакомились, для Гарольда не было большей радости, чем рассмешить ее, сокрушить эту опрятную чинность, вовлекая в приступ безудержного веселья.
— Это тебе, — сказала она.
До него дошел смысл ее слов, лишь когда она по столу пододвинула к самому его локтю конверт, и оба уставились на письмо, словно никогда ничего подобного не видели. Конверт был розовый.
— Штемпель Берика-на-Твиде.
В Берике никто из знакомых не жил. Впрочем, и в других местах их жило немного.
— Ошиблись, наверное…
— Вряд ли. Штемпель неправильно не поставят.
Она взяла с решетки гренок. Морин любила остывшие и хрустящие. Гарольд принялся рассматривать загадочный конверт. Оттенок бумаги не имел ничего общего с их ванной комнатой, с подобранными под цвет полотенцами и махровым чехлом на крышке унитаза. Среди их жизнерадостной розовости Гарольд ощущал себя посторонним. А здесь тон был понежнее, как у рахат-лукума. Его имя и адрес были написаны от руки кое-как, неуклюжими слипшимися буквами, словно их впопыхах накорябал ребенок: «М-ру Г. Фраю, 13, Фоссбридж-роуд, Кингсбридж, Саут-Хэмс». Гарольд не узнавал почерка.
— Ну? — поторопила Морин, подавая нож.
Гарольд приставил острие к углу конверта и вспорол его по сгибу.
— Аккуратнее! — остерегла жена.
Под ее пристальным взглядом он извлек из конверта письмо и нацепил очки для чтения. Послание было отправлено из неизвестного ему учреждения — хосписа святой Бернадины.
«Дорогой Гарольд, ты, вероятно, удивишься, получив мое письмо…»
Он глянул в конец страницы.
— Ну? — нетерпеливо переспросила Морин.
— Боже ты мой! Это же от Куини Хеннесси…
Морин подцепила ножом кусочек масла и стала намазывать на гренок.
— От какой Куини?
— Работала у нас на пивоварне. Давно. Ты разве не помнишь?
Морин пожала плечами.
— С какой стати? Не понимаю, почему я должна всех помнить. Ты не подашь мне варенье?
— В финансовом отделе работала. Очень хорошая женщина.
— Гарольд, это повидло. Варенье красное. Ты знаешь, если смотреть перед тем, как брать что-нибудь, толку будет больше.
Гарольд подал ей требуемое и вернулся к чтению. Превосходно оформлено, не то что надпись на конверте. Он улыбнулся, вспомнив, что в этом была вся Куини: любое дело, за какое бы она ни бралась, она выполняла так аккуратно, что не придерешься.
— А она тебя помнит. Передает тебе привет.
Морин поджала губы.
— По радио говорят, что французы полюбили наш хлеб. У них, видите ли, не умеют его нарезать как следует. Вот они и едут к нам и скупают его подчистую. Сказали, что к лету жди дефицита. — Помолчав, она спросила: — Гарольд, в чем дело?
Он не ответил. Выпрямившись и сильно побледнев, он лишь беспомощно приоткрыл рот, а когда собрался с духом, его голос прозвучал совсем тихо, словно издалека:
— У нее… рак. Куини написала, чтобы попрощаться.
Гарольд силился еще что-то добавить, но не мог подобрать слов. Вытащив из кармана носовой платок, он высморкался.
— Я… Ах, черт!
На глаза его набежали слезы. Нарушив молчание, грозившее затянуться на несколько минут, Морин шумно сглотнула и сказала:
— Очень жаль.
Гарольд кивнул, не в силах поднять на нее глаз.
— Погожее сегодня утро, — начала Морин. — Вынеси-ка летние стулья во дворик.
Но Гарольд сидел неподвижно и упорно молчал. Морин собрала грязную посуду, и вскоре в прихожей вновь взвыл пылесос.
Гарольд чувствовал, что задыхается. Он боялся, что стоит ему сдвинуться с места, даже просто пошевелиться, как лавина чувств, которую он из последних сил сдерживает в себе, хлынет наружу. Как же так вышло, что за эти двадцать лет он ни разу не попытался разыскать Куини Хеннесси? Ему живо представилась невысокая темноволосая женщина, с которой они когда-то вместе работали и которой теперь — уму непостижимо — сколько же? Шестьдесят? И она умирает от рака в Берике. «Куда забралась», — подумалось Гарольду. Так далеко на север он ни разу не ездил. Он выглянул в сад и обратил внимание на пластиковую ленточку, зацепившуюся за лавровый куст изгороди. Ее трепал ветерок, но оторваться она никак не могла. Гарольд спрятал письмо в карман брюк, дважды хлопнул по нему для надежности и встал из-за стола.
Морин наверху тихо прикрыла за собой дверь спальни Дэвида и постояла, вдыхая его запах. Затем раскрыла синие шторы, которые всегда задергивала на ночь, и проверила, не скопилась ли пыль на кромке тюля, касавшейся подоконника. Протерла посеребренные рамки выпускной кембриджской фотографии Дэвида и еще одной рядом, черно-белой, снятой во младенчестве. Морин поддержала в этой комнате порядок, потому что постоянно ждала сына и не знала, когда именно он вернется. Какой-то частью души она не переставала надеяться. Мужчинам невдомек, что значит быть матерью. За ребенка всегда переживаешь и любишь ничуть не меньше, даже когда он уже взрослый. Она вдруг вспомнила про Гарольда, про его розовое письмо и пожалела, что не может сейчас поговорить с сыном. Морин вышла из спальни так же неслышно, как и вошла, и отправилась снимать белье с постелей.
Гарольд Фрай вынул из ящика буфета несколько листов «Базилдон бонда»[2] и выбрал одну из шариковых ручек Морин. Но какие слова подыскать для умирающей от рака женщины? Ему хотелось донести до нее, как сильно он сострадает ей, но написать «соболезную», как на открытках из магазина, высылаемых уже после, так сказать, прискорбного события, было бы неуместным. К тому же казалось слишком формальным, будто отписка с его стороны.
Гарольд вывел было: «Дорогая мисс Хеннесси, от всей души надеюсь, что Ваше состояние улучшится», но, отложив ручку и внимательно перечитав послание, ощутил всю его неловкость и фальшь. Он скомкал лист и начал снова. Гарольд никогда не блистал красноречием, а теперь его чувства были столь безмерны, что трудно было выразить их в словах, но даже если бы это ему удалось, вряд ли пристало обращаться с ними к человеку, которому за двадцать лет не написал ни строчки. Вот если бы Куини оказалась на его месте, она бы точно не сплоховала.
— Гарольд!
Оклик жены застал его врасплох: он думал, что Морин наверху, начищает что-нибудь или разговаривает с Дэвидом. Она так и не сняла резиновых перчаток.
— Пишу Куини весточку.
— Весточку?
Морин частенько повторяла за ним слова.
— Да. Подпишешь от себя?
— Думаю, не стоит. Наверное, это будет слишком — подписываться под посланием незнакомому человеку.
Хватит беспокоиться об изяществе слога. Нужные слова сами собой сложились в его голове в простой текст: «Дорогая Куини, спасибо за письмо. Очень тебе сочувствую. Твой С наилучшими пожеланиями, Гарольд (Фрай)». Немного пресно, но сойдет. Вложив листок в конверт, он быстро его запечатал и надписал сверху адрес хосписа святой Бернадины.
— Сбегаю к почтовому ящику.
Часы показывали одиннадцать. Гарольд снял непромокаемую куртку с крючка, куда просила ее вешать Морин. Из двери в нос ему ударило теплым просоленным воздухом, но не успел Гарольд переступить левой ногой через порог, как рядом возникла жена.
— Ты надолго?
— Только туда и обратно.
Она неотрывно глядела на него зелеными, болотного оттенка глазами, приподняв хрупкий подбородок. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, но он не нашелся, что именно, — по крайней мере, чтобы что-то изменить по существу. Как хорошо было бы обнять ее, как в прежние времена, положить голову ей на плечо и так замереть.