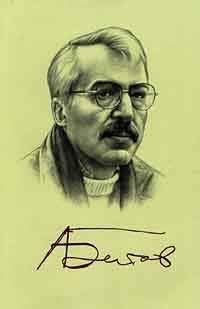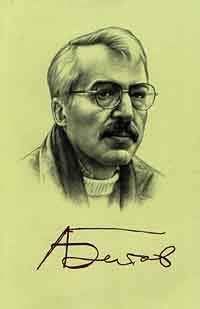Обоснованная ревность. Повести
В 1964 году на страницах не то ЛГ, не то «Воплей» разгорелась дискуссия не то о судьбах рассказа, не то о судьбах романа. Приглашенный участвовать автор посмел утверждать, что воскрешенная усилиями Ю. Казакова и других наших лучших прозаиков традиция рассказа Чехова и Бунина уступила стремлению поколения написать роман, но поскольку трудно за него усесться в наше «торопливое, поворотливое время», рассказ стал удлиняться то ли до слитком длинного рассказа, то ли до недлинной повести, то ли до фрагментов, намекающих на будущий роман. Короче, то, что по-английски определяется как «лонг-шорт сториз». Иные критики тут же накинулись на меня за попытку подорвать основы «великой традиции русского рассказа».
Я был не прав, конечно. «Зачем, — как замечал Паскаль, — говорить: благородное, прекрасное, стремительное, бескорыстное… не проще ли сразу употребить слово „лошадь“?»
Не проще ли сразу употребить слово «повесть»?
Цветаева писала Пастернаку про «Воздушные пути»: «Только зачем Вы назвали свою прекрасную прозу рассказами? Пусть Чириков пишет рассказы! Куда лучше русское слово „повесть“».
Действительно, вот, где мы и пионеры и чемпионы жанра. «Повести Белкина», «Петербургские повести», «Записки охотника», «Хаджи-Мурат», «Дуэль», «Поединок», «Сентиментальные повести», наконец…
Я увлекся этим представлением в 1962 году. Чем больше я ему отдавался, тем хуже меня печатали… Рукопись, полученная от машинистки (30 строк х 60 знаков в строке) становилась первой публикацией. Чем удачней бывал текст, тем чаще в нем оказывалось либо 49, либо 82 страницы. Мои страницы были плотнее, и я с нетерпением ждал результата: не перечитывая, заглядывал в конец рукописи, чтобы убедиться в последней цифре.
В запутанном определении жанра для меня основным параметром стал объем.
Составляя это «Избранное», ограниченное издателем как 25 авт. листов (600–625 стр. на пишущей машинке но прежним редакционным нормам), т. е. не более 10 % из всего написанного, я не мог найти принципа дискриминации, кроме как по объему, т. е. 49 или 82…
В среднем — 60. Пришлось повыдергивать их из разных, уже окончательно сложившихся книг.
1962–1985… Повести!
9 октября 1997, СПб
АНДРЕЙ БИТОВ
Ирина Роднянская. Новые сведения о человеке
Одинаково у всех. И у разных одинаково,
не только у одинаковых.
Андрей Битов, «Лес».
Перед нами новая книга Андрея Битова… Новая? Ведь сам автор не кривя душой сообщает, что «повыдергал» эти повести из прежних сложившихся книг и что писались они с 1962 по 1985 год, так что самая молодая из них— «Фотография Пушкина» — вот уже двенадцать лет как не нова. И тем не менее.
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — пожелал себе наш автор в совсем раннем рассказе «Автобус». Пожелал — и сделал: сел за свою книгу жизни, начав ее несколько ранее открывающего настоящий том «Бездельника» и не кончая до сего дня. Говоря языком нынешней литературной науки, Битов всю писательскую жизнь — нет, точнее просто: всю жизнь— исторгал из себя единый метатекст, открытый разнообразным способом членения. «Битов — великий комбинатор собственных текстов», — так откликнулся Сергей Бочаров на одну из недавних составительских акций прозаика. Но, добавлю, такая «комбинаторика» потому именно возможна и убедительна, что каждая вещь писателя сращена множеством жилок с большим текстовым телом; из него-то и вынимаются фрагменты, цельные куски, в зависимости от того, какого рода связи выбраны путеводными в одном или в другом случае. Каждая выборка — новый литературный организм под новым смысловым акцентом.
Не так давно Битов обновил арсенал написанного, скомпоновав объемистый четырехтомник и назвав его «Империя в четырех измерениях». Он представил себя свидетелем-летописцем ушедшего города — Ленинграда-Питера, еще не помышляющего о возвращении прежнего звучного имени; ушедшей эпохи — от оттепельных поползновений до черты, подведенной 1991 годом; ушедших пространств — от Балтии до Хивы; ушедшего типа сознания, представленного «лишними» интеллигентами, к коим относится наряду с Монаховыми-Одоевцевыми и сам повествователь. И ему, кажется, вполне удалась эта неожиданная историографическая роль, словно ради нее он только и жил, восприняв долг, завещанный от Бога.
Но нет, не только ради нее. И вообще Битов — куда больше, чем летописец, испытатель естества. Соответственно, нынешний не слишком массивный том повестей, как ни странно, в чем-то сосредоточенней и глубже четырехтомных «анналов». Его зазывное название намекает на терпкость знакомых всем внутренних драм. А мог бы он быть поименован и так, как до-названа первая часть битовской трилогии странствий («Птицы, или Новые сведения о человеке»), каковым титулом я и воспользовалась для своих заметок.
Собеседник автора из «Человека в пейзаже» — живописец-любитель и любомудр-самодум Павел Петрович — говорит о себе так: «Еще почему вряд ли я художник… Я все постичь хочу, а не изобразить». Битов — превосходный художник; словесный рисунок у него виртуозно интонирован и доносит все, что ему поручено, — от атмосферического гения местности до полусознательных вибраций души, от надсады до юмора. Но каким-то боком самооценку П. П. он мог бы отнести и к себе. Его писательское усилие — воспользуемся образом, предложенным тем же собеседником, — то и дело прободает красочный слой на холсте, вспарывает самый холст литературного вымысла и вторгается в личное жизненное пространство, где автор осуществляет «нелицеприятное противостояние собственному опыту».
Догматики постмодерна, ухватываясь за эти «выпадения» прозаика из условий традиционной изобретательности, хотят причислить Битова к отцам-основателям своей школы (в одной, дорогой для писателя, компании с Набоковым и… Пушкиным) — дескать, это наша игра. Ан нет. Когда Битов, «прорывая холст», «выходя за диапазон» закулисного повествователя, демонстрирует нам свою судорожную позу за пишущей машинкой — будь то в «Жизни в ветреную погоду», где герой вполне тождествен автору, в «Глухой улице», в «Человеке в пейзаже» или в «Фотографии Пушкина», — он намекает, в чем, собственно, состоит его жизненная задача. Если это игра, то не бескровная, и даже вовсе не игра… Как шелкопряд нить, он добывает из себя вышеозначенные «новые сведения»: «Я стремлюсь написать правду о самом себе, ибо это единственная из доступных мне правд». И тем самым совершает свой человеческий труд самопреодоления перед лицом добытой правды, во всяком случае — пытается… Несет «крест усиленной самоосознанности и самооформленности» (Сергей Бочаров) — так сказать, жрец и жертва в одном лице, и тут же алтарь в виде орудия письма. (Потому-то Битов без смущения посвящает нас в изматывающую трудоемкость этих «тошнотворных усилий» — «как он на своем чердаке работает»; кабы речь шла о делании текстов, а не жизни, постыдился бы, что скажут: исписался, иссяк, бумага потом пахнет.)
Что же это за «сведения» такие? Мне, современнице битовского литературного пути, уже не передать, видно, свежести первого, давнего впечатления. Рассказ «Дверь» (впоследствии он открыл цикл об Алексее Монахове, в настоящем издании начатый «Садом»): там действуют «мальчик» и «она», там — полудетская страсть «мальчика» и «ее» женское лукавство даны в такой оголенной, узнаваемой явленности, что при первом чтении захватывало дух. И все-таки — каким странным, каким именно что незнакомым показалось изображение. Сергей Чудаков (человек немалых талантов и несостоявшейся литературной судьбы), ровесник молодого автора, помог мне тогда понять, в чем тут дело: Битов, сказал он, не советский писатель, он не пишет обстоятельств, общественной принадлежности, среды, он берет существования как таковые. (Тогда это действительно считалось чуть ли не «антисоветским», ибо попахивало «идеализмом» и «метафизикой».)
Вскоре у Битова появятся, конечно, и среда (то элегически, то беспощадно, но в равной мере зорко выписанная «хорошая семья» воспитуемого героя — интеллигентная, порядочная и основательно запуганная), и эпохальные обстоятельства («империя», вознесшаяся накануне краха), и привязка к местности (родная Петроградская сторона и многие маршруты прочь от нее), — но то исходное ошеломляющее впечатление все-таки оказалось верным. Битов решительно развел человека как экзистенциальную монаду в ее подлинности — и обстоятельства, понуждающие к отказу от этой подлинности, к исполнению вмененной ими «роли». И не то чтобы обстоятельства эти были особенно гнусны или агрессивны. Нет. Роман «Азарт», где гениально одаренный герой, желая отомстить системе за смерть своей души, едва не становится террористом, — так и не был написан; не битовский это был замысел. Обстоятельства скорее благоприятствуют человеку Битова в исполнении предложенной «роли» (разные там диссертации, интеллектуальные победы, успехи у женщин, семейство и потомство), но чем они ласковей, тем противоположней его «неоспоримой, безвоздушной» сути. Дело не в дурных обстоятельствах, а в несводимости личности— к любым. Дело в преодолении социоцентризма, свойственного не только тогдашней официальной идеологии, но определявшего собой огромный литературный пласт.