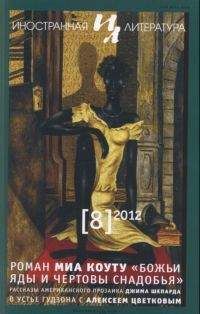Миа Коуту. Божьи яды и чертовы снадобья. Неизлечимые судьбы поселка Мгла. Роман
Воображение — это обезумевшая память.
Мариу Кинтана
Врач Сидониу Роза втягивает голову в плечи, готовясь переступить порог с тем же трепетом, с каким склонялся бы над вскрытым чревом пациента. Он посещает на дому семью Бартоломеу Одиноку, отставного механика из поселка Мгла. Супруга больного, дона Мунда, встречая врача в дверях, не удостаивает его ни словом, ни даже улыбкой. Приходится выкручиваться самому:
— Ну что, наш Бартоломеу сегодня молодцом?
— Таким молодцом, что впору нести ему в кровать молитвенник и свечи…
Хриплый голос звучит будто издалека, кажется, она говорит через силу, тема ей в тягость. Врач не уверен, что верно понял. Он ведь португалец, в Африке без году неделя. Ну что ж, второй заход:
— Я, дона Мунда, о вашем муже спрашиваю…
— Он очень плох. Соль вся в крови разошлась.
— Какая соль? У него сахарная болезнь.
— Он не согласен. Говорит, если, мол, у него диабет, то у меня черти на обед.
— Вы все ругаетесь?
— И слава богу. Нам ведь больше заняться нечем. Думаю, доктор, ругань для нас — все равно что для других любовные признания.
Мунда останавливается посреди коридора и заправляет под платок выбившуюся прядь, будто эта жалкая кудряшка — последний знак ее остывающей чувственности.
— Скажите, доктор, а у Бартоломеу не та хворь, которая нынче ходит по поселку?
— Нет, это другая болезнь.
— Тут недавно один из таких сумасшедших пробегал: руками машет, того и гляди взлетит.
— Медпункт ими битком набит, почти все — солдаты.
— Знаете, как их народ называет? Малохоликами.
— Да, я знаю. Малохолик — забавное слово…
— Думаете, это сглаз?
— Никакого сглаза не существует, дона Мунда. Болезни возникают по объективным причинам.
Мунда стучит в дверь спальни-крепости, где заперся и чахнет уже который месяц ее старик. Она ждет, что Бартоломеу проворчит что-нибудь в ответ. Тщетно. Не жалея костяшек пальцев, она барабанит снова. Доктор Сидониу робко пытается ее остановить.
— Может, он спит. Я попозже зайду…
— Ничего, этот проснется как миленький.
Иногда она называет мужа «этот», иногда сокращает его имя до Барту. Сейчас, прижавшись щекой к доскам, она трясет щеколду. Наконец из спальни доносится:
— Зачем?
С самого приезда Сидониу Роза не устает удивляться. Вот, например, что это за вопрос вместо «кто там?». Но дона Мунда уже объясняет, что привела доктора. Муж цедит сквозь зубы: врач пусть войдет один, а то при виде жены у него пульс сбивается, черти б ее драли при всем к ней почтении.
Теперь надо ждать, пока он откроет. Дона Мунда истолковывает врачу-португальцу смысл тягучих и вязких звуков, доносящихся из-за двери. Слышно, как старый Бартоломеу медленно, как застывающая лава, сползает с кресла, слышно, как стонет, нагибаясь, чтобы надеть носки. А сейчас, говорит Мунда, сейчас он натянет чулки, чтобы они прикрывали колени.
— Ваш муж так тщательно обувается…
— Да ладно! Ему просто стыдно.
— Стыдно?
— Он говорит, что у него все ноги в коросте, а ногти отросли так, что аж землю загребают.
— Ну, дона Мунда…
— Это не я говорю, это он. А еще рассказывает, что его дед перед смертью покрылся чешуей…
Если верить Бартоломеу, это у них семейное — перед смертью превращаться в ящерицу. Вот и он постепенно ящеризируется. Тело, правда, еще кое-как держится, но душа-бедняга уже пресмыкается вовсю. Жена ворчит, а потом вздыхает:
— Остался бы дурень в больнице. Да ведь такому хоть кол на голове теши! А в городе — так ему было хорошо.
Бартоломеу не выписался, сбежал. Ему поставили капельницу от слабости, кормили через кровь. Но сам он считал, что все наоборот: это его флюиды, которые выкачивают из него через вену, кормят всю больницу. Краденая кровь бежит по жилам здания, стекает по стенам и на закате отражается в небесах. «Больница — место нездоровое», — заявил старик, дал деру и вернулся в свою берлогу: «У нас с моим домом на двоих одна болезнь — тоска по невозможному».
— А уж мне до чего было хорошо! — стонет жена. — Лучшее, что со мной в жизни случилось, — это когда дурня упекли в больницу…
Дона Мунда набирает в грудь воздуха для горестного вздоха, Но не успевает выдохнуть. Дверь наконец открывается как раз в тот момент, когда врач спрашивает:
— Анализы ему там сделали?
Вместо ответа является Бартоломеу. Бывший механик — тень, тающая в темноте. Он стоит, вцепившись обеими руками в пряжку, боится, что штаны упадут.
— А, доктор. Это точно вы… А то эта меня иногда обманывает, переодевается, чтобы я ее не узнал и впустил.
Решительный жест жене: мол, останься за дверью. Неуверенным шагом, будто проталкиваясь сквозь толщу удушливого смрада, доктор входит в темную спальню. Бартоломеу, волоча ноги, плетется впереди. Сзади, стараясь не слишком быстро догонять их, крадется дона Мунда. Шаги Бартоломеу — короткие, так ходят по тюремной камере. Ее шаги округлые — будто она идет по острову.
— Итак, друг мой, вам лучше?
— Если мне когда и станет лучше, это уже буду не я.
— Рад видеть вас, как всегда, в философском расположении духа.
— Извините, доктор Сидоню, видеть-то и я вас рад, — говорит старик, — да не рад, что я — пациент.
В поселке все, как сговорившись, зовут португальца Сидоню, и ему даже нравится, что его перекрестили: новое имя — шаг к тому, чтобы стать новым человеком. Он снисходительно улыбается больному старику:
— Стало быть, сегодня мы настроены пессимистически?
— Вот скажите, доктор, чем можно излечиться от моей болезни?
Разве что подцепить еще какую-нибудь, хочется сказать врачу, но он сдерживается и вместо этого рождает афоризм:
— Жизнь неизлечима, дорогой мой.
Старый Бартоломеу передвигает ногу за ногу, чтобы спрятать дырявый носок. Сам на краю могилы, а все думает, хорошо ли выглядит. Морщась от сигаретного дыма, он то вздохнет, то застонет.
— Видите синяки под глазами? На лице уже не умещаются. А печень? Печень вот-вот из носу полезет.
Для него печень — не орган. Печень — это такой флюид, растекающийся по внутренностям. Перед смертью человек превращается в бурдюк, полный желчи.
— И вдобавок я никак не сойду с этого проклятого корабля.
— Мутит?
— Мутит, да еще и качает, как хрен знает что, будто я до сих пор на той дерьмовой посудине.
Посудина — это трансатлантический лайнер «Инфант дон Генрих». В его машинном отделении, в мрачном, как нынешняя спальня, трюме, Бартоломеу Одиноку с десяток лет прослужил механиком. Он был единственным чернокожим членом команды, чем очень гордился. Потом всему пришел конец: колониальный режим пал, корабль сидел на мели, постепенно превращаясь в металлолом и ожидая, как и сам бывший механик, отправки на свалку.
— Вы весь в белом, как капитан корабля…
— Это всего лишь медицинский халат.
— Серьезно, я как будто еще на борту, в походе, даже плеск воды слышу…
Ностальгия и впрямь плещется в его глазах, когда он рассматривает выцветшую фотографию в рамке на стене. Там сам Бартоломеу среди курсантов и матросов с «Инфанта дона Генриха». Под фотографией — бело-зеленая эмблема Колониальной судоходной компании.
— Доктор Сидоню…
— Да, друг мой.
— Лекарство-то вы прихватили?
— Какое лекарство?
Старик грустно усмехается. Прикрывает глаза, мотает головой. Вздох размывает границу между смирением и упрямством.
— Ну то самое, доктор, длинноногое, сисястое, крутобедрое…
— Вы все еще настаиваете на этой идее, Бартоломеу?
— Сама идея на мне настаивает, доктор, только благодаря ей я еще жив.
И тут же напоминает скороговоркой, будто боясь не успеть. Ведь как было? Он перестал выходить. Сначала из дому. Потом из комнаты. Улица стала чужой, далекой, недостижимой страной. Так недолго и человеческий язык позабыть.
— Я ничего не чувствую, доктор. Я сижу сиднем.
И от постоянного сидения причиндалы его, как он сам рассказывает, свисают все ниже и ниже. Были в паху, отвисли аж до колен, висели до колен — теперь до щиколотки.
— Потому-то я носки и не снимаю. Мои интимные части волочатся по полу.
— Ладно, Бартоломеу, в конце-то концов, чего именно вы боитесь?
— Боюсь оттоптать себе помидоры…
Вместо смеха выходит кашель. Врач из солидарности тоже кашляет. Старик недоверчиво косится на него: не притворяется ли доктор? Потом жадно затягивается сигаретой, раздувая грудь, и снова принимается выталкивать слова. После каждой фразы — пауза.
— Раз уж сам я теперь не выхожу, доктор, может, вы мне вызовете на дом девчонку из таких… гладких, нарядных, пухленьких?