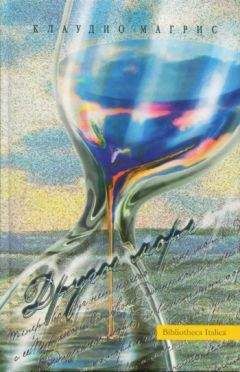КЛАУДИО МАГРИС
ДРУГОЕ МОРЕ
’Αρετή τιμήν φέρει[1], доблесть приносит честь. Действительно, если быть точным, согласно добрым правилам филологии, Tugend bringt Ehre[2]. И в самом деле, их классный руководитель профессор Конрад Нуссбаумер требовал перевода на немецкий, что представлялось вполне естественным в мрачноватых, правильно заставленных одинаковыми партами классных комнатах старой императорско-королевской Staatsgymnasium[3] в Гориции, где с легким хрустом под рукой уборщика каждый день исчезали столь же одинаковые, как и парты, листки настенного календаря, а сами стены были такими серыми, что трудно сказать, собственный ли это их цвет, или же полинялые остатки какой-то другой краски.
Скорее всего, все там и началось, когда, входя в эти классные комнаты, он чувствовал, что ему чего-то не хватает, чернильница на парте была похожа на глубокий темный глаз циклопа, а чернила наполняли стекло синими отсветами, звавшими в морскую даль или всего лишь к вершинам Коллио, до которых было рукой подать, стоит только выйти из школы, и желание уйти в эту голубую даль скрашивало часы, проводимые в гимназии в нетерпении, чтобы они пролетели как можно быстрее, унося печаль и никчемность тех событий, что постоянно происходили на свете.
Теперь вокруг нет ничего, кроме моря. Это уже не Адриатика с ее Пирано и Сальворе, где несколько месяцев назад все и произошло, не Средиземное море, где властвуют аористы[4] и consecutio temporum[5], которые ему более по душе, чем итальянский и даже немецкий, а монотонный и бесконечный океан. Мощные волны в темноте, белые брызги, крыло птицы, исчезающей во тьме. Он целыми часами неподвижно стоит на палубе, ничуть не утомляясь от этой неизменной картины. Нос корабля разрезает воду и не достает до нее, потому что кажется, что он проваливается в пустоту расщелины, разверзающейся под ним, и глухо рокочущая волна разбивается о борт.
Сейчас ночь, ничего не видно, но и раньше, когда он стоял с прикрытыми от слепящего солнца глазами с темно-красными пятнами под веками, глубокая синь неба и моря казалась черной. В конце концов вселенная темна, и только глаз, такой же древний филолог, обладает пристрастием обращать невидимые волновые частоты в свет и цвет. И когда море сверкает в ослепительном зеркале полудня и все вокруг становится неразличимым — это просто восторг, божественный праздник.
Неясно, начинается или кончается этим бегством его жизнь. Его curriculum[6] способен поведать, что он — Энрико Мреуле, сын Грегорио и Джулии Веньер, родившийся в Руббии 1 июня 1886 года, проживающий с 1898 года в Гориции по улице Петрарки, дом 3/1, аттестат зрелости получен в императорско-королевской гимназии и так далее. Одним словом, приводит совершенно малозначащие данные, которые, вероятно, с трудом могут пополниться впоследствии. Нет, вовсе не потому, что ему нравится уничтожать собственные следы и запутывать неизвестно кого, а потому, что от этого темного моря, мерно шумящего там, внизу, исходит и обволакивает его непреодолимое равнодушие ко всему, что он теперь покидает. Он горд этим, это ничейная доблесть, ему не принадлежащая, но в каком-то смысле она приносит ему честь, как в той сентенции, которую предпочитал Нуссбаумер в упражнениях по переводу.
Энрико уехал 28 ноября 1909 года, сев в Триесте на корабль, отплывающий в Аргентину, почти никого не предупредив. Он лишь сказал матери, что ему нужно немного денег для поездки в Грецию, чтобы завершить курс классической филологии, которой он обучался в Инсбруке и Граце. После теперь уже отодвинутой временем смерти отца его семье, благодаря принадлежащим ей нескольким мельницам в округе Гориции, удалось сохранить скромный достаток, и в конечном счете деньги были единственным подорожным пособием, которое могла предоставить ему мать.
Мать больше любила брата, лишь потому, что тот был младшим. Но обоим братьям, как и сестре, трудно было целовать ее лицо, скорее неприязненное, чем ласково материнское, какая-та болезненная тайна скрывалась в жесткой складке вокруг рта, как у всякого сердца, которому трудно любить. Энрико ощущал горечь вины из-за своего бессердечного отношения к матери, но, стоя здесь на верхней палубе и всматриваясь в быстро терявшийся в ночном океане след корабля, решил больше никогда не вспоминать ее лица, не думать о взаимном неоплаченном долге и разделяющих их недоразумениях. Эта мысль затерялась в сумерках среди мачт корабля и ушла действительно навсегда, странно, как легко и безболезненно удалось от нее отделаться, а через мгновение исчезли и угрызения совести. Сейчас он оказался в плену непреодолимой лени, навеянной усыпляющим ночным ветром и шумом моря.
В Триесте при отплытии его провожал лишь Нино. В капитанской каюте должен находиться секстан, который отмечает положение на море, измеряя неуловимо снижающийся по мере продвижения к югу угол расположения звезд на горизонте. Энрико попытался представить себе секстан и другие инструменты, предназначенные для того, чтобы не сбиться с курса, не заблудиться и знать, где кто находится в этой однообразной водной шири. Его жизнь, что бы ни происходило по ту и другую сторону океана, все равно будет связана с тригонометрией чердака, где они встречались каждый день втроем — Карло, он и Нино.
Когда они познакомились в школе, Карло числился в ученических списках как Карл Михельштедтер и уже тогда сразу же стал «другом, заполнившим для меня все пространство и ставшим моим миром, тем, что я искал», как написал ему Энрико незадолго до отъезда. Их одинаковая оценка окружающего мира была воплощением величайшего желания, чудом и наслаждением. На чердаке у Нино в Гориции они втроем вместе читали в оригинале Гомера, трагиков, досократиков, Платона и Евангелие, Шопенгауэра (понятно, что его тоже в подлиннике), Веды, Упанишады, проповедь в Бенаресе и другие речи Будды, а также Ибсена, Леопарди и Толстого. Они делились своими мыслями, рассказывая о каждодневных событиях на древнегреческом, как, например, о знаменитом приключении Карло с собакой, и шутили, переводя все потом на латынь.
На том чердаке произошло нечто простое и решающее, прозвучал зов без обращения, явственный и воздушный, как в те дни, когда они ходили плавать и бросать камешки по водной глади Изонцо. Энрико видит улыбку Карло, белый гребень волны под темными глазами и черными кудрями, видит, как он, встав из-за стола и направившись к танцевальной площадке, уходит вдаль, как он поднимается на вершину горы Сан-Валентин или на тот же чердак, всегда с внутренней убежденностью.
Нино Патернолли провожал Энрико от Гориции до Триеста, короткое путешествие среди неровных камней и ржаво-красных зарослей сумаха[7], этой свернутой крови осени под бесчувственным небом. Когда они прибыли в порт, уже наступил вечер, стены темных облаков терялись в вышине, влажный ветер мягко веял в лицо. Маяк высвечивал зеленоватый круг под носом «Колумбии», посреди шелухи и другого мусора колыхалась и переливалась в отблесках света тыква — отломленная от носа парусника и изъеденная морем раздувшаяся грудь полены[8].
Маяк отбрасывал на воду конус света подобно флорентийской лампаде, освещавшей лежавшие на столе бумаги. Это был светильник с высокой ножкой и священными, хищными горловинами, высвечивающий страницы, когда Карло заполнял их крупным и четким каллиграфическим почерком. Карло был счастлив тем, что он пишет, свободный и уверенный, каким и был на самом деле, не обращая внимания на уже написанное, как тот комедиант, что жаждет представить публике некий плод своего труда, но, не желая трудиться, лишь топает от нетерпения, поглаживая прекрасно переплетенную книгу. Теперь тот светильник с абажуром, украшенным изречениями досократиков, покоится на чердаке на письменном столе Нино. А пистолет должен лежать в одном из ящиков стола. Энрико хотел взять пистолет с собой, но пронести его на корабль оказалось невозможным, и он оставил его Карло — кому же еще мог он оставить что-то из дорогих ему вещей.
Карло пообещал, что в час, когда корабль снимется с якоря, подойдет к слуховому окну на чердаке и будет смотреть в вечерних сумерках в сторону Триеста, откуда отплывает Энрико. Как будто бы он мог нашарить в темноте и вытащить предметы из мрака, это он-то, учивший, что философия, любовь к неразделенному знанию, означает видеть далекие вещи так, будто они расположены совсем близко, и отказаться от их постижения, потому что они просто-напросто существуют в великом спокойствии бытия. Кто знает, каким было выражение его лица, когда он высовывался из окна, черные глаза в ночи, не было ли в них вызванной отъездом Энрико тени безысходной меланхолии и пронизанного горечью желания остановить его бегство, которым Карло так восхищался, может быть и чересчур.