Цунэсима-кава и Досабори-гава сливаются, меняют название на Адзи-кава и впадают в Осакский залив. В том месте, где реки сливаются, три моста- Сёва-баси, Хататэкура-баси и Фунацу-баси. По одному из них ползет старенький трамвай, из окон которого видна желтая река с медленно плывущими по ней пучками соломы, щепками и каким-то гнильем.
Хотя река и называлась рекой, скопище складов судоходных компаний и множество грузовых суденышек говорили о том, что здесь уже море. На противоположной стороне, там, где Цунэсима-гава и Досабори-гава, видны маленькие домики. Они тянутся вверх по течению реки и переходят в кварталы высотных зданий Ёдоя-баси и Китахама.
Но те, кто живет в низовьях реки, не думают, что обитают на берегу моря. И действительно, когда вокруг тебя реки и мосты, громыхает трамвай и постоянно вздрагиваешь от выхлопов трехколесных автомобилей, вряд ли чувствуешь, что рядом море. Но во время прилива переполненная река, которую подталкивают морские волны, доходит до ломиков на берегу и приносит с собой соленый запах моря, напоминая людям, что оно где-то рядом. По реке снуют паровые катера, таская за собой деревянные баржи. Катера носят гордые имена «Каваками-мару» или «Райо-мару[1]», но несколько слоев краски на их непрочных, как у ковчегов, корпусах, стыдливо прикрывающие бедность владельцев, красноречиво свидетельствуют об обратном. Порой капитаны, по пояс высунувшись из тесных надстроек, неожиданно тяжелым взглядом смотрят на рыбаков на мосту, и случается, что, смешавшись под таким взглядом, какой-нибудь рыбак свернет удочки и уйдет к опорам моста.
Летом почти все рыбаки собираются на Сёва-баси, укрываясь в тени больших арочных перил моста. Здесь толчется разный люд — и рыбаки, и просто зеваки (проходит мимо, случайно бросит взгляд на чью-нибудь удочку, да так и замрет), и те, кто бездумно смотрит на паровые катера, которые пыхтя и кашляя поднимаются по реке.
Напротив Сёва-баси — другой мост, Хататэкура-баси, у которого и расположилась столовая «Янаги».
— Дядя в будущем месяце грузовик покупает, а эту лошадку тебе, Нобу-тян, отдаст.
— Что, вправду? Ты вправду мне ее отдашь?
В дверь столовой пробивается летнее солнце, и за спиной посетителя играют круглые блики. Обычно этот мужичок появляется после обеда, переходит Хататэкура-баси вместе с лошадью и груженой подводой. Он всегда съедает принесенный с собой обед, а потом заказывает каки-гоори. Все это время лошадь ждет своего хозяина.
Нобуо подбежал к отцу, жарившему кинцуба.[2]
— А дядя говорит, что лошадку мне отдаст.
Мать мальчика, Садако, заливая шербет медом, неодобрительно посмотрела на них: «Что отец, что сын — шуток не понимают».
Лошадь неожиданно заржала, что случалось очень редко.
В 50-х годах в Осаке быстро росло число машин, но в те времена еще можно было встретить вот такого мужичка с лошадью и подводой.
— Собака, кошка, три цыпленка в комнате… Отец еще хуже ребенка… Только лошади им не хватает. Отдай сейчас им эту лошадь, они и ее приведут в дом…
Мужичок громко засмеялся.
— Да это мамка шуток не понимает. Правда, Нобу-тян? Хозяин столовой Симпэй сунул в руку сыну лакомство. Мальчик недовольно посмотрел на отца
— Опять кинцуба! Я шербета хочу.
— Не нравится — не ешь. А шербет тебе не полагается.
Мальчик поспешно затолкал в рот угощение. Он вспомнил, как мать отговаривала отца: «Да кто же летом кинцуба покупает-то…».
— Ах ты, скотина! Тут тебе не хлев! — крикнула Садако и выскочила из столовой.
— Ой, уж простите вы нас, вечно она… — виновато сказал мужичок и подозвал к себе Нобуо:
— Угощайся, половина — твоя.
Нобуо и мужичок склонились над одной чашкой с шербетом. Нобуо украдкой поглядывает на шрам от ожога на лице мужичка. Его левое ухо словно порвано. Нобуо ужасно хочется спросить у дяди, что у него с ухом, но, как только он собирается с духом, его сразу бросает в жар.
— После войны уже десять лет прошло. Вам и так, поди, понятно, что можно нынче в Осаке на лошади-то с повозкой заработать.
— Ты что, действительно грузовик покупаешь? — спросил Симпэй, подсаживаясь к мужчине.
— Да подержанный… Новый-то мне не потянуть.
— Хоть и подержанный, но грузовик — это все-таки грузовик. Ты всегда здорово работал, ты ж настоящий трудяга. А теперь у тебя все как по маслу пойдет.
— Да это не я трудяга, а лошадка моя. Никогда не отказывается, хорошо вкалывает.
Симпэй открыл бутылку пива и поставил ее перед мужичком.
— Давай заранее обмоем твое дело, я угощаю. Мужичок с явным удовольствием выпил пива и поблагодарил Симпэя.
— Когда на грузовике будешь ездить, хоть иногда к нам заглядывай. Ты ведь первым посетителем был, когда я открыл здесь столовую.
— Ну да, у меня тогда еще и рана толком не зажила.
Холодок от розового клубничного шербета тает где-то во рту, а потом словно пронизывает голову и добирается до самых мозгов. Нобуо невольно сморщился прямо с ложкой во рту. Отец ладонью вытер ему рот и сказал: «Это потому, что ты торопишься».
— А Нобу-тян тогда еще у мамки в животе был, — обратился мужичок к Садако, убиравшей у входа.
— Да и вправду мы с тобой давно знакомы. — Садако поставила перед лошадью ведро с водой. В душной столовой слышно, как лошадь пьет, и к этим звукам примешивается доносящийся откуда-то издалека шум парового катера.
— А я уже один раз умирал, — сказал мужичок. — Честное слово. Я это помню, как сейчас. Как будто лечу куда-то в темноту, а перед глазами у меня что-то наподобие бабочек. Я вроде как за них уцепился, может, потому и выжил. У меня минут пять дыхания не было и сердце не билось. Старшой мой, который держал меня все это время, так сказывал. А еще говорят, что если умер, то ничего не чувствуешь. Значит, вранье все это.
— Да ну ее к черту, войну эту.
— Опять идиот какой-нибудь от скуки, глядишь, начнет где-нибудь.
— Пора мне на Утасима-баси, — сказал мужичок. Было видно, что он доволен. — У меня сегодня груз тяжелый. Не знаю, как она на горку-то заберется у Фунацу-баси.
На улице жара. Горячий воздух струится над трамвайными рельсами, и от этого кажется, что они тихо подрагивают.
— Сколько уже Нобу-тяну?
Нобуо заглянул в добрые глаза лошади и, гордо выпятив грудь, выпалил:
— Уже восемь! Я во втором классе.
— А моему еще только пять.
Нобуо, прислонившись спиной к двери, проводил лошадь взглядом.
— Дядя! — вдруг крикнул Нобуо.
Мужичок обернулся, и Нобуо от этого вдруг стало неловко. Он не знал, что сказать, и только засмеялся. Мужичок тоже рассмеялся в ответ и продолжал идти, поддерживая лошадь под уздцы. Перламутровые мухи кружились над ним.
Лошадь не смогла взобраться на пригорок около Фунацу-баси.
Она сделала несколько попыток, но ей не хватало еще одного, последнего вздоха. Понемногу и лошадь, и хозяин стали уставать. Все вокруг — и машины, и трамвай, и прохожие — остановились. Люди молча наблюдали за мужичком и лошадью.
— Пошла! — Подстегиваемая криком лошадь напрягалась изо всех сил. На ее теле цвета жженой охры играли взявшиеся откуда-то необычные для нее мускулы, они сильно дрожали. Пот струился по ее бокам и капал на дорогу.
— Может, в два приема попробуете мост переехать? — Мужичок обернулся на оклик Симпэя, помахал ему рукой — «мол, все нормально» — и встал позади подводы. Он стал толкать груженую подводу, и они все же взобрались на пригорок.
— Пошла!
И тут копыта лошаденки поскользнулись на растаявшем от жары асфальте, и она отпрянула назад. Мужичка сбило, и через мгновение он оказался под грудой металлолома, свалившегося с подводы. Задними колесами ему переехало живот, а под передними оказались его шея и грудь.
Лошадь добивала копытами распластавшееся тело. Рядом с Нобуо вскрикнула Садако.
— Нобу-тян, не подходи!
Симпэй бросился к лежавшему мужичку, но тут же вернулся и вызвал по телефону «скорую помощь».
— Он же не умер? Все обойдется, правда? — повторяла сквозь слезы Садако, съежившаяся у входа.
В углу кухни Симпэй взял свернутую циновку и снова вышел на улицу.
— Нобуо, зайди-ка в дом! — Садако звала сына, но Нобуо не шевелился.
Симпэй накрыл тело циновкой. Это была летняя циновка с цветами, которую обычно расстилали по вечерам. Нобуо присел, чтобы укрыться от солнцепека, и сосредоточенно смотрел на сочные ирисы, нарисованные на циновке, и на струйки крови, которые, извиваясь, вытекали из-под циновки и ползли к опорам Фунацу-баси. Вскоре все заполонила толпа.
— Бедняжка… Наверное, пить хочет. Нобуо, давай ее напоим!
Симпэй набрал ведро воды. Нобуо схватил его обеими руками, перешел дорогу и приблизился к лошади. В лицо мальчику пахнуло запахом пены — белой крахмалистой кашицы, скопившейся на губах животного. Лошадь тяжело дышала. Она даже не потянулась к воде. Налитыми кровью глазами она смотрела то на Нобуо, то на ведро с водой, потом взгляд ее упал на тело хозяина, лежавшее под циновкой. И так она неподвижно продолжала стоять под палящим солнцем.
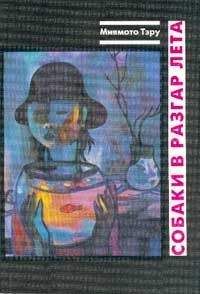
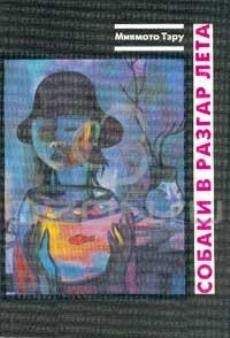
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)


