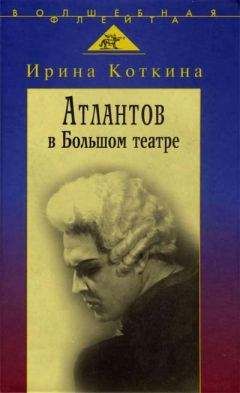Генри Миллер
Замри, как колибри. Новеллы
Мысленным взором я вижу ее так же отчетливо, как в тот день, когда мы впервые встретились. Это было в одном из коридоров средней школы Восточного округа в Бруклине, и она шла из одного класса в другой: чуть пониже меня ростом, прекрасно сложенная, полногрудая, искрящаяся здоровьем, высоко подняв голову с властным и в то же время вызывающим видом, за которым таилась странная, тревожащая застенчивость. Рот у нее был теплый, улыбчивый, приоткрывавший крупные, ослепительно белые зубы. Но прежде всего внимание приковывали ее глаза и волосы — легкие, золотистые, туго собранные на затылке в форме раковины. Волосы натуральной блондинки, какую встретишь разве что в оперном театре. А глаза — голубые, лучистые, озадачивающе прозрачные — удивительно гармонировали с цветом ее волос и нежным румянцем, так напоминавшим яблоню в цвету. В свои шестнадцать она, разумеется, была не так уверена в себе, как казалось со стороны. Но среди одноклассниц безошибочно выделялась, как выделяются те, в чьих жилах течет голубая кровь. (Голубая и ледяная, чуть не вышло из-под моего пера.)
Этим первым взглядом она буквально сбила меня с ног. Ее красота не просто ошарашивала: она вселяла в меня дотоле неведомую робость. Не помню уже, как я нашел в себе силы приблизиться и пролепетать несколько ничего не значащих слов. Помню только, что мне потребовались долгие недели, дабы при последующих встречах повторить этот немыслимый подвиг. Но одна деталь прочно запала в мою память: каждый раз, когда мы ненароком перекрещивались друг с другом в школьных коридорах, она краснела. Само собой, наши разговорные экспромты не шли дальше телеграфно-беглого обмена репликами. У меня, по крайней мере, не отложилось ничего из слов и фраз, какие она роняла на ходу, торопясь с одного урока на другой. Чуть не забыл добавить, что хотя мы были одних лет, по учебе я опережал ее на класс или два. Все это не имело ровно никакого значения, но в моих глазах приобретало сверхъестественную важность.
Только окончив среднюю школу, мы обменялись с ней несколькими письмами. Летние каникулы она проводила в Эшбери-Парк, штат Нью-Джерси, а я, как обычно, тянул лямку в офисе цементной компании “Атлас Портленд”. Каждый вечер, вернувшись с работы, я устремлялся к камину, на котором складывали пришедшую почту, и почти всегда тщетно. Повезло мне только раз или два за все лето. Это не в меру затянувшееся ухаживание лишь усугубляло во мне ощущение безнадежности. От времени до времени, но нечасто, мне доводилось сталкиваться с ней на танцах. Два раза, насколько помню, я приглашал ее в театр. Меня даже не удостоили фотографии, которую я носил бы на сердце и на которую мог бы поглядывать украдкой.
Но мне и не было нужды в фотографиях. Ее лицо постоянно маячило на горизонте моего сознания; а ее физическое отсутствие делалось той нескончаемой пыткой, какая лишь отчетливее запечатлевала ее черты в моем мозгу. Я носил ее в себе, нередко вступая с нею в диалог, мысленный или прямой, когда поблизости не было посторонних. Возвращаясь вечерами после ритуального обхода дома, где она жила, я в гулкой пустоте выкрикивал ее имя, обращая в запредельную высь свою отчаянную мольбу быть услышанным. В этом не было и тени актерства: для меня она пребывала в этой недостижимой, запредельной выси, будто богиня, ведомая мне одному и ставшая моим безраздельным кумиром. Ведь это я, дурак, каких свет не видывал, поднял ее над твердью земной и не дал опуститься на почву, по которой ступают другие смертные. Последнее, правда, предопределилось в первый же миг нашей встречи: выбирать мне было не из чего.
Странно: она ни разу не продемонстрировала мне и тени безразличия или враждебности. Кто знает: быть может, и она молчаливо ждала, что в моей страсти проступит нечто земное, похожее на обычные мужские заигрывания; быть может, и она тайно желала, чтобы я взял ее как мужчина, если понадобится — силой.
Раз или два в год, не чаще, судьба сводила нас на вечеринках в домах одноклассников — на тех затягивавшихся за полночь подростковых сборищах с песнями, танцами и нелепыми играми типа “Поцелуй подушку” или “Почты”, какие давали возможность, избрав желанный объект, вволю потискать его в темной комнате. Но даже когда нам открывалась возможность беспрепятственно обняться и поцеловать друг друга, наша застенчивость не позволяла пойти дальше самого невинного и общепринятого. Когда мы танцевали, меня с головы до ног пробирала дрожь и я без конца спотыкался, сбиваясь с ритма к вящему смущению моей избранницы.
Оставалось одно: неистово бренчать по клавишам пианино — бренчать, ревниво глядя, как она вытанцовывает с моими друзьями. И ни разу не подошла она ко мне сзади, не обняла за плечи, не прошептала на ухо какую-нибудь милую банальность. А после таких вечеров я часами ворочался на постели, скрежеща зубами, или рыдал, как несмышленое дитя, или молился Богу, в которого уже не верил, чтобы Он даровал мне невиданную милость: увидеть в ее глазах искорку благосклонного внимания.
И на протяжении всех этих пяти или шести лет она оставалась для, тем же, чем стала в первый миг: непрестанно маячащим в сознании образом. Я и понятия не имел, о чем она думает, мечтает, к чему стремится. Она была чистым листом, на котором я горестно запечатлевал все, что приходило в голову. Стоило ли надеяться, что я был для нее чем-то большим?
Наконец наступил день, когда нам пришлось распрощаться. День, когда я уезжал на Дикий Запад — чтобы стать ковбоем, как я наивно полагал. Я подошел к ее дому и несмело нажал кнопку звонка. (На подобный подвиг я отваживался только дважды или трижды.) Она показалась в дверях — похудевшая, осунувшаяся, выглядящая старше, нежели я привык ее видеть.
Ей двадцать один; мне тоже, и я уже два или три года жил с “вдовушкой” (из-за которой-то, собственно, я и бежал на Дальний Запад: мне во что бы то ни стало требовалось освободиться от этого злосчастного помешательства). Она не пригласила меня зайти в квартиру, а, напротив, вышла со мной наружу и проводила до тротуара; там мы остановились и минут пятнадцать—двадцать проговорили о разных разностях. Само собой, я заранее известил ее, что зайду попрощаться, и бегло очертил свои планы на будущее. Разумеется, умолчав о том, что в один прекрасный день пошлю за ней из своего далека (эта и подобные глупости так и остались несказанными). На что бы я в глубине души ни надеялся, было ясно: сложившегося не повернуть вспять. Она знала, что я люблю ее — это знали все, — но связь с “вдовушкой” решительно и бесповоротно исключила меня из круга ее потенциальных избранников. Эта связь была чем-то, чего она не могла понять, не говоря уж о том, чтобы простить.
Ну и жалкое зрелище я тогда собой представлял! Ведь даже в тот момент, найдись у меня достаточно решимости и отваги, для меня еще не все было потеряно. По крайней мере, так казалось мне, когда я видел потерянное, расстроенное выражение ее глаз. (И все-таки продолжал бодро и нелепо разглагольствовать о славе Золотого Запада.) И даже отдавая себе отчет в том, что, скорее всего, вижу ее в последний раз, не решился я заключить ее в объятия и подарить ей последний, страстный поцелуй. Вместо этого мы всего лишь пожали друг другу руки, пробормотали несколько невнятных прощальных слов, и я двинулся прочь.
Я ни разу не обернулся. Но ни минуты не сомневался в том, что она все еще стоит у ворот, провожая меня взглядом. Дожидаясь, пока я исчезну за поворотом, чтобы ринуться к себе в комнату, броситься на постель и от всей души зарыдать? Этого я не узнаю ни в этом мире, ни на том свете.
Спустя еще год, когда я, погрустневший и помудревший, вернулся с Запада, чтобы опять оказаться в объятьях “вдовушки”, от которой бежал, мы ненароком еще раз столкнулись. В последний раз. Дело было в трамвае. Хорошо, что со мной оказался один из старых друзей, хорошо ее знавший; в противном случае я бы смутился и ретировался. После нескольких необязательных слов мой приятель полушутя заметил, что, дескать, не худо бы было, если бы она пригласила нас к себе домой. Теперь она была замужем и, как ни трудно в это поверить, жила как раз по другую сторону дома, где обитала “вдовушка”. Мы поднялись по высокой каменной приступке и вошли в ее квартиру. Она показала нам одну комнату за другой и, в завершение осмотра, спальню. А затем, смутившись, обронила нелепую фразу, пронзившую меня острее ножа. “А здесь, — пояснила она, указывая на большую двуспальную кровать, — мы спим”. С этими словами между нами словно опустился железный занавес.
Таким был для меня финал. Но не совсем финал. Ибо на протяжении всех прошедших лет она оставалась для меня женщиной, которую я любил и потерял, недостижимой. В ее фарфоровых глазах, таких холодных и зовущих, таких огромных и прозрачных, я вновь и вновь вижу себя самого: нелепого, одинокого, бесприютного, неугомонного, отвергнутого художника, человека, влюбившегося в любовь, всегда одержимого поисками абсолюта, всегда взыскующего недостижимого. Как и прежде, ее образ за железным занавесом свеж и отчетлив, и ничто, кажется, не в силах омрачить его или заставить поблекнуть.