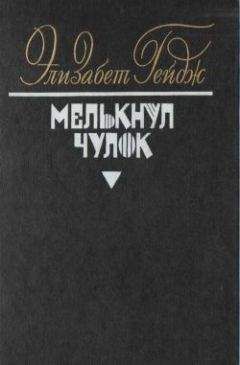Дмитрий Стахов
Ретушер
Исповедь ненаемного убийцы
…чтобы широко открыть их уже на носилках.
Во мне что-то пульсировало, грозя сорваться, дрожало.
Санитары несли меня к выходу. У того, который шел сзади, сутуловатого, ширококостного, с покрытыми рыжим волосом запястьями, был высокий, шишковатый, покрытый испариной лоб.
Проплыл потолок мастерской, мелькнул козырек крыльца. Санитары начали спускаться по ступеням. Моя голова уперлась в поясницу того, который шел впереди.
– Приподними, приподними! – крикнул сутулый. Носилки неприятно тряхнуло.
Меня начали вдвигать в машину, но там что-то заело, и носилки тряхнуло еще раз. Вроде бы я застонал. Не от боли. Так, ради проформы. Пока санитары, переругиваясь, устраняли неисправность, я продолжал постанывать. Мне было обидно. Как же так! Тридцать шесть отработанных негативов – и такие мучения! Ведь все должно было кончиться мгновенно!
Вокруг какие-то незнакомые любопытные рожи, над ними – плывущие в вышине облака. Запах выхлопных газов, пыли.
К тому же – эти неумехи санитары!
К тому же – небритый, угреватый, с красными воспаленными глазами врач!
Врача я раздражал. Тем, что был еще жив. Ему нужно было со мной заниматься. Не то что с моими непрошеными гостями: этих просто грузили в две другие машины. Ногами вперед. И ничего там не заедало.
Врач присел на корточки, щелкнул замками большого металлического ящика. Помятая физиономия врача скрылась за крышкой. И появилась вновь.
– Щас камфару сделаем, – поймав мой взгляд, сквозь зевок пообещал врач и подмигнул.
Мне бы потерять сознание. Мне бы отключиться, уйти, но со мной все было в порядке.
Даже до больницы меня довезли очень быстро. А там без задержек перекинули на каталку. Словно сама собой в вену воткнулась игла: мой организм теперь подпитывало что-то прозрачное. Из перевернутой бутылки с мерными делениями.
И куда-то подевалась одежда: кроме бесформенных бахил, на мне ничего не было.
Колесики каталки скрипели.
Из меня здорово подтекало, и постеленная на каталку простыночка прилипла к спине.
Хотелось почесаться, хотелось отхаркаться.
Я подумал, что ретушь – не только способ устранения дефектов на фотографическом изображении. Не только работа с негативами или позитивами. И – в моем случае – не только попытка изменить то, с чего изображение получено. Ретушь – это стиль жизни!
Стиль жизни! Мне понравилась эта мысль. Настолько, что я был готов ею как можно скорей поделиться. С кем угодно.
Тут мне показалось, что меня кто-то окликнул. Шепотом. Или громогласно. Слева. Или – справа и сверху. На каком-то непонятном языке. Но я все понял.
– Ты не читал этой статьи? – спросили меня. – Нет? Очень интересная статья!
И я понял – со мной разговаривал отец! Он шел рядом с каталкой, на ходу разворачивал газету и явно собирался почитать мне вслух. Я смущенно улыбнулся толкавшему каталку туманному пятну – мол, у моего отца всегда были причуды, – собрался лечь поудобнее и…
…И вот отец поднял глаза от газеты.
Я, давно привыкший ко всем его гримасам, эту знал лучше прочих. За две-три секунды – пока взгляд отца еще не встречался с моим – его лицо успевало преобразиться. Он опускал газету, и передо мной представала маска старого циника. Уж я-то знал, что значат эти тонкие складочки у губ и легкий прищур!
С годами менялись газеты – в тот вечер он читал, конечно, «Правду», вроде даже был увлечен предпоследней страницей, обличительной статьей о зверствах израильской военщины, – менялись кресла – кажется, не меньше трех, – менялся и сам отец. Впрочем, очки и лысина были всегда, но все увеличивающаяся сутулость! Но истончающаяся шея! Но морщины, но становящийся все более узкогубым рот! Но, наконец, пигментные пятна, словно выползавшие из-под клочков седых волос над большими, плотно прижатыми к голове ушами!
Только взгляд, взгляд поверх очков оставался прежним. Сделать получше свет, нажать на спуск – ни дать ни взять заслуженный учитель республики Петров И.В. отдыхает после тяжелого дня. Строгий блюститель подрастающего поколения. Депутат и автор патетических статей в местной прессе.
Мой отец не был заслуженным учителем, депутатом, автором статей. Вот уставать, работая фотографом в издательстве при Миннефтегазе, он уставал. Причем был он фотографом удивительным, профессионалом высшей пробы, знавшим о своем деле буквально все, но почему-то – тогда я и не догадывался, почему – старательно избегавшим фотографировать живых существ, в частности людей, и находившим сомнительное удовольствие в съемке компрессорных станций и буровых.
Он не был и Петровым И.В.
А в тот вечер, когда отец поднял взгляд от газеты, посмотрел на меня поверх очков и произнес, по обыкновению отрывисто, выговаривая слова сухо, с какими-то неуверенными ударениями: «Сегодня никуда не уходи. Будет мой бывший сослуживец. Он должен помочь», – я и узнал, что отец мой, Генрих Рудольфович Миллер, вовсе не тот, за кого он себя выдавал. По крайней мере – передо мной, перед своим сыном. Тоже, естественно, Миллером. Миллером Генрихом Генриховичем.
Именно в тот вечер я узнал, что отец чуть меньше двадцати лет прослужил в органах: начинал в НКВД, а уволен был, как якобы ненадежный элемент, в разгар борьбы с космополитизмом, из МГБ.
До того вечера, или же – до своих шестнадцати лет, я пребывал в инфантильно-романтической уверенности, будто мой отец – бывший полярник-метеоролог, ушедший с работы из Главсевморпути по состоянию здоровья. Или не по состоянию здоровья (когда я повзрослел, отец немного изменил легенду), а – в начале войны – из-за немецких фамилии-имени-отчества.
Барометры, замысловатые приборы, об истинном назначении которых, как выяснилось позже, отец ровным счетом ничего не знал, книги по атмосферной оптике, карты движения воздушных масс за шестидесятой параллелью, все, что так поддерживало мою уверенность в заполярном прошлом отца, было куплено у вернувшегося из лагеря, выжившего из ума, беззубого сорокапятилетнего старика, когда-то – блестящего ученого. Отцу просто хотелось помочь бывшему доценту, помочь как экс-эмгэбист экс-метеорологу, как один советский человек другому советскому человеку. Дать тому возможность протянуть еще года два-три.
Может быть, тем самым он пытался снять с себя хотя бы часть грехов, в которых был по уши? Возможно, но сразу следует отметить, что отец ни о каких грехах никогда не задумывался.
Он не был злым. Конечно, он был человеком суровым – суровым, как, скажем, утес в каком-нибудь труднодоступном горном районе.
Как бы то ни было, метеоролог через полгода после возвращения умер, а немецкие фамилия-имя-отчество отнюдь не помешали отцу в долгой службе на Лубянке. Что, в общем-то, не так уж и странно: борьба с мировым космополитизмом была поважнее борьбы с германским фашизмом. Тут и спорить нечего. Результаты говорят сами за себя: выиграв во втором случае и проиграв в первом, мы имеем то, что имеем.
Тогда же мне показалось странным, что отец, будучи завсегдатаем ресторанов, знающим их практически все, от самых захудалых до самых дорогих, от загородных до центральных, предпочитающим, однако, «Прагу», в той же самой «Праге» не организовал столь важную встречу. С другой стороны, если бы он встретился со своим бывшим сослуживцем в ресторане, я бы ничего не узнал – быть может, пребывал бы в неведении еще долгое-долгое время, быть может – до последних месяцев и дней, даже вплоть до сегодняшнего вечера, такого томительного, нескончаемого.
В «Праге» бывший его сослуживец мог бы заказать, например, зайчатину с грибами, но отец и сам готовил восхитительно! Любое блюдо в его исполнении, от яичницы и овсяной каши до телячьих отбивных, сборной ухи и тортов, было произведением искусства. Что неудивительно – фотография и поваренное мастерство схожи во многом.
Однако дело было не в моем отце, а в бывшем его сослуживце. Сам бывший сослуживец, наверное, и не хотел и не мог пойти в ресторан. Впрочем, черт его знает, какой работой он руководил, какое кресло занимал, в каких чинах пребывал бывший сослуживец моего отца.
Отцовские слова – мол, никуда не ходи – прозвучали глупо. Я не выходил из дома уже почти что неделю. И отцу это было прекрасно известно. Он просто хотел показать – сегодня вечером решится моя судьба, хотел дать понять: на этого, обещавшего прийти поздно вечером человека последняя надежда.
Я сидел в темном углу нашей большой общей комнаты и пялился в полумрак. Фигура отца, читавшего в кресле газету, казалась мне неким более ярким, чем фон, пятном. Очерченный лампой торшера круг – с торшером тоже, кстати, произошла перемена, отец поддался веянию моды, и старый торшер, с абажуром матерчатым, оборчатым, сменился торшером с пластиковым абажуром, на длинной никелированной штанге, – круг с креслом посередине был, я бы сказал, пуст. Отец находился в кресле, и одновременно там его не было.