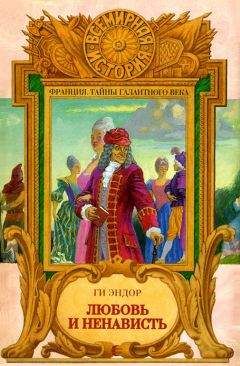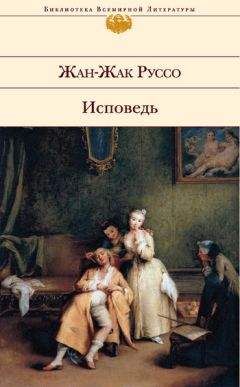Гай Эндор
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ
Вольтер! Вольтер! Как славно звенело это имя весь восемнадцатый век![1] Оно так очаровывало Жан-Жака Руссо[2], для которого имя Вольтера еще в молодости звучало по-особенному, словно клич неуловимого орла! Клич далекий, величественный, таинственный и мощный. Клич гигантской птицы, парящей над облаками с широко раскинутыми крыльями и уносящейся к самому солнцу. Разве мог он подумать, что в один прекрасный день ему, никому не известному человеку, Жан-Жаку Руссо, посчастливится стоять рядом с самим Вольтером!
Только от одной этой мысли у Руссо кружилась голова. Нет, это просто невозможно. Подумать страшно. Он так беден, а Вольтер так богат. Он, по сути дела, ничего не знает, а знания, которыми обладает Вольтер, таковы, что изумляют всех людей его времени. У него ум с ленцой, а стремительное, брызжущее остроумие Вольтера уже вошло в легенду.
Хуже всего, что он, Жан-Жак Руссо, был ленивцем. А Вольтер трудился не покладая рук, трудился и днем и ночью. Его излюбленный афоризм повторяли многие: «Как прекрасно отдыхать, если бы только отдых не наводил такую ужасную скуку».
Но, несмотря на все эти различия, которые были не в пользу Жан-Жака, он не терял уверенности в том, что когда-нибудь станет вровень с Вольтером. В один прекрасный день они наверняка встретятся, будут стоять лицом друг к другу.
Несмотря на бедность, Жан-Жак умел выкраивать деньги на покупку книг. Иногда, преодолевая природную лень, он подавлял желание поспать или помечтать, а при необходимости мог просидеть всю ночь напролет за работой. И хотя его память оставляла желать лучшего, он все же должен был овладеть солидными, фундаментальными знаниями ценой бесконечных повторений того или иного предмета. Несмотря на свою бесталанность, в чем он вынужден был себе признаться, благодаря силе воли он должен был выжимать из себя нечто удивительное, блистательное, что могло бы заставить людей обратить на него внимание.
Руссо! Руссо! Да, его имя тоже зазвенит в один прекрасный день, он в этом уверен! Он достигнет всего любой ценой, несмотря на жертвы, которые придется принести, — он должен добиться славы, должен добиться своего!
Ах этот Вольтер!
Как часто, как по-разному он рисовал в своем воображении тот момент, когда станет достойным этого великого человека и сам Вольтер раскроет перед ним свои объятия. Ноги у Руссо подкосятся. Ничего не видя перед собой из-за ручья жарких слез, он падет на колени у ног Вольтера и, рыдая от счастья, воскликнет: «Учитель!»
Но этот почитаемый всеми человек слишком благороден, слишком велик, он не потерпит такого восхваления себя и такого унижения другого. Он нежно поднимет Жан-Жака, поставит на ноги, обнимет и представит компании знаменитых парижан, и у всех глаза будут на мокром месте.
— Месье, — скажет Вольтер, — позвольте мне представить вам своего коллегу, многодостойного гражданина Женевы, замечательным литературным трудам которого вы не раз рукоплескали.
Давая возможность разыграться своему воображению, Жан-Жак предполагал, что Вольтер может сказать при такой встрече: «Его прекрасные философские изыскания будут оказывать влияние на человечество многие столетия». Или: «Его поразительные математические выкладки изменили все наше представление о мироздании».
Его грезы менялись, но главное всегда оставалось неизменным: момент триумфальной встречи с Вольтером — тот непременно заключает своего плачущего собрата в объятия.
Это будет незабываемый момент, думал Жан-Жак, напрягая воображение, он отлично знал, что шансы на такую встречу уменьшаются с каждым днем. Пока он строит воздушные замки, Вольтер благодаря поразительной усидчивости готовит свой следующий триумф.
Такой успех, как у Вольтера, еще никогда никому не сопутствовал. Его воспевали ученые-иезуиты[3], он учился с детьми принцев и герцогов — представителей «голубой» крови Франции. Остроумием, поэзией Вольтера восхищались, когда ему было всего десять. Его талант и образованность были признаны всеми, когда ему не было и двадцати. Он снискал всемирную славу в тридцатилетием возрасте. К тому же Вольтер отличался таким разнообразием талантов, какого давно, многие века, не было дано никому. Он владел в совершенстве любым литературным жанром[4], писал прозу и стихи, комические и трагические, сочинял для сцены, был автором исторических произведений. Он достиг высот в философии и в других науках.
В день премьеры «Меропы» в театре впервые раздались крики: «Автора! Автора!» Это впоследствии станет сценической традицией и захлестнет весь мир, заставляя бледнеть актеров и актрис перед поразительной личностью драматурга.
В довершение всего Вольтер удивлял своей плодовитостью в различных областях литературного творчества. Когда Вольтеру исполнилось тридцать три года (а Руссо едва шестнадцать и его еще не мучили грезы о том, как стать в один ряд с мастером), издатели уже печатали собрания его сочинений. Количество томов постоянно росло и через несколько лет достигло сотни…
Мог ли Руссо мечтать о таком бодром старте? Особенно если вспомнить, как скупо его одарила природа. По правде говоря, у него вообще не было никакого таланта. Только одни эмоции. Но они были такими сильными, что поглотили его целиком. Порой он признавал, что эти страсти могут привести его к гибели.
«Я — шпага, изнашивающая ножны, — напишет он позже. — И всю мою жизнь можно определить этой фразой».
В качестве иллюстрации можно привести один инцидент. Жан-Жак был уже давно знаком с мадам де Варенс[5], но еще не получал приглашения разделить с ней ложе…
Жан-Жак обычно управлялся с двумя блюдами, пока она заканчивала с одним. Мадам ела так медленно, что ему приходилось снова и снова приниматься за еду, а это угрожало его здоровью. По правде говоря, он сильно сопротивлялся этому: сколько лет он голодал!
Однажды Жан-Жак наблюдал за тем, как мадам, медленно отрезав кусок мяса, неторопливо поднесла его ко рту. Губы неохотно раскрылись, зубы сняли кусок с вилки и принялись лениво его пережевывать. В движениях ее губ, рта Жан-Жак видел безграничное сладострастие. Ее медленно ходившие челюсти свидетельствовали об отсутствии аппетита, что так контрастировало с ее пухленькими формами, особенно с пышной грудью. Его охватило непреодолимое желание, и Жан-Жак придумал, будто видит в еде волосок.
— Погодите! Погодите! — закричал он. — У вас волосок…
Она тут же вытащила изо рта недожеванный кусок мяса, положила его на тарелку, Жан-Жак стремительно, не давая ей опомниться, схватил его с тарелки и жадно проглотил.
Она смотрела на него в изумлении. Казалось, все тепло из ее обширной груди бросилось в лицо. У нее раскраснелись щеки. Мадам осуждающе покачала головой. «Миленький… мой маленький…» — зашептала она с упреком. У нее не было детей, она, так сказать, усыновила Жан-Жака без предварительного обсуждения этого вопроса с ним. Они никогда не говорили об этом. Она называла его «мой маленький», а он обращался к ней «мама».
Опасаясь упустить прилив любви, Жан-Жак первым нарушил тишину. Он плакал. Он просил у нее прощения. Он упал перед ней на колени, обнял за ноги. Он не смел объясниться перед ней. Он не мог признаться в страсти, которая бушевала внутри его как пожар. Он боялся признаться в том, что, найдя полотенце, которым она вытиралась, или вещицу из ее нижнего белья, он испытывал чудовищные муки, покрывал эти предметы тысячами горячих поцелуев. Он обожал место, на котором она стояла, искренне испытывал радость от того, что она рядом. Он был готов броситься перед ней на колени, словно перед рассерженной античной королевой, которой захотелось потоптать его своими каблучками.
Такие всепоглощающие, бьющие через край эмоции объясняют всего Руссо. Ему была присуща такая сила эмоций, такая страстность, которые не поддавались определению. Они сковывали его язык. Даже на закате жизни он испытывал это состояние и никогда не мог точно объяснить, что с ним происходит. Возможно, поэтому его никто не понимал до конца.
Особенно давала знать о себе его страсть к Вольтеру. Примером непреодолимого дрейфа в этом направлении служит инцидент, произошедший с Жан-Жаком и гражданином Женевы Багере, авантюристом, который когда-то работал у русского царя Петра[6]. Судьба занесла его в Шамбери; познакомившись с мадам де Варенс, он попытался вовлечь ее в какие-то спекулятивные махинации.
Однажды после обеда этот Багере предложил Жан-Жаку сыграть в шахматы.
— Шахматы? — пробормотал Руссо. Он стыдился признаться этому много повидавшему человеку в том, что не умеет играть в столь известную и распространенную игру.