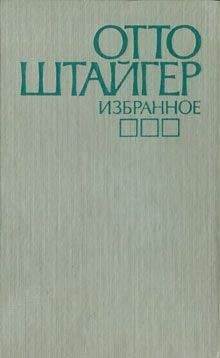Он был резчиком продольных полос на большой бумажной фабрике. Вместе с ним работали и резчики поперечных полос, но он не зазнавался. Отнюдь! Он разговаривал и шутил с ними, как с равными. Правда, к себе домой не приглашал: жена не позволяла. «Ведь есть же разница», — говорила она.
Он сносил это, так как знал, что у жены золотой характер и она во всем готова идти ему навстречу. Вот только поговорить с ней не удавалось — она была молчаливого нрава. Сначала он жалел об этом, а потом, когда и у самого пропала охота разговаривать, был даже рад, и жизнь его потекла бодро и весело. Проснувшись рано утром, он считал себе пульс и отправлялся на фабрику, где весь день резал свои продольные полосы. Ему и в голову не приходило, что кто-то может нарушить размеренное течение его жизни.
Но время шло, и, когда ему исполнилось семьдесят (ни днем раньше!), его подозвал к себе шеф резчиков продольных полос и повел в главное здание. Там их дожидался еще один господин, и он объявил:
— Вассерман, вам теперь семьдесят лет. С вас достаточно. Вы нам больше не нужны. С завтрашнего дня можете оставаться дома.
Вот так это и случилось. Вассерман жадно ловил ртом воздух, его охватил ужас.
— Нет! — крикнул он. — Не надо.
Но господин настоял на своем; вполне может быть, что он испытал нечто похожее на жалость, когда увидел на лице Вассермана слезы. Во всяком случае, он добавил:
— Мы будем и впредь платить вам часть вашего оклада. Небольшую, правда, но вы человек старый, у вас скромные потребности.
Однако Вассермана волновало совсем другое. Как прожить день, не сделав ни одной продольной полосы? Вот чего он не мог себе представить. А жена? Что сказать ей?
Вечером, когда она, молчаливо-неприступная, стояла у плиты, он понял, что ей ничего не следует говорить. Ни в коем случае. Она и так кашляла вот уже целую неделю, перестала класть в пищу соль. Такого позора она бы не пережила.
Он так ей ничего и не сказал и на следующий день вышел из дому пораньше, будто спешил на работу. На Шведском мосту он остановился и долго смотрел вниз, на воду. Но время текло медленно, было все еще только девять часов утра. Он пошел дальше. Вдруг ему пришло в голову, что не следовало бы открыто разгуливать по улицам. Могли встретиться знакомые или соседи, а уж они-то не преминут с многозначительной ухмылкой доложить жене, что видели его там-то и там-то. Тогда придется во всем сознаться. Кого-кого, а свою супругу он знал хорошо.
Поэтому он стал уходить в отдаленные парки и часами прятался в кустах. Когда приближался сторож, он откашливался и напускал на себя такой занятой вид, будто готовился к кругосветному путешествию. Так проходил день за днем, и каждый тянулся целую вечность. В конце месяца он принес домой свою пенсию.
— Маловато, — сказала жена.
Но он все уже обдумал и ответил, что резка продольных полос переживает сейчас глубокий спад.
— Разумеется, — добавил он, — я могу взяться и за резку поперечных. Тогда и заработок будет выше.
— Нет, нет, — испугалась она, — ведь есть же разница. Будем экономить.
Так прошло полгода. Но потом наступила зима. В парках стало спокойнее, но на скамейках лежал снег. Вассерман дрожал от холода. И тут к нему пришла спасительная мысль: музей! Музеи всегда пусты. И в них тепло. Следующие дни он ходил по очереди в каждый из трех музеев и нашел в них то, что искал: покой и тепло.
Охотнее всего он ходил в Музей естественной истории. Там в натуральную величину демонстрировались различные животные, в том числе и доисторический человек. За стеклом стояла гробница ребенка, умершего шесть тысяч лет назад, и Вассерман подсчитал в утренние часы, когда еще не было посетителей, насколько увеличилось бы население земли, если бы этот ребенок не умер преждевременно, а стал взрослым человеком и произвел на свет троих детей, те в свою очередь произвели по трое детей каждый и т. д. Получалась астрономическая цифра, такое количество людей земля не в состоянии была бы прокормить, несмотря на все удобрения, и он поблагодарил про себя провидение, которое не позволило этому ребенку осуществить столь губительные для потомства замыслы.
По понедельникам Музей естественной истории закрывался на уборку, и он шел в Музей искусств. Однако висевшие там на стенах полногрудые и широкобедрые женщины мало его интересовали. Все это было ему известно по собственному опыту и не производило на него впечатления.
Месяцы ежедневных скитаний изрядно расшатали его здоровье, он выглядел усталым и измотанным; служители музея, приметившие частого посетителя, принимали его за ученого; здороваясь с ним, они прикладывали руку к козырьку и называли его профессором.
Он не протестовал; тщеславием, как уже говорилось, он не отличался и хотел только одного — тепла и покоя.
Однажды к вечеру, задержавшись по обыкновению в зале первобытного человека, он заметил подругу своей жены. На мгновение испуг парализовал его. Попадись он ей на глаза — и спокойной жизни придет конец; кроме того, это унизило бы жену и вызвало бы ее гнев, а ее-то, насмотревшись в Музее искусств разных картин, он снова научился ценить. Подруга жены как раз разглядывала оружие человека каменной эпохи, которое ее мало интересовало. Вассерман знал, что их разделяет только гробница ребенка, умершего шесть тысяч лет назад. Мимо него не проходит равнодушно ни одна женщина.
Нужно было действовать, и действовать быстро. Он поспешил в следующий зал, а потом еще дальше, в зал Средних веков. Женщина между тем миновала привлекательный экспонат тысячелетней давности и приближалась. И тут Вассерман с ужасом заметил, что попался в ловушку: средневековым залом экспозиция заканчивалась, он сидел в мышеловке. В отчаянии Вассерман стал искать, где бы спрятаться, но в музеях укромных местечек нет, и он решил было смириться — но тут увидел доспехи. Рыцарские доспехи!
Он зашел сзади и, хотя раньше никогда не интересовался работой жестянщика, все же довольно быстро забрался внутрь панциря. Едва он успел опустить забрало, как женщина вошла в зал.
Задержалась она ненадолго, а на доспехи бросила только один враждебный взгляд. Должно быть, подумала о бедной жене рыцаря, которой приходилось чистить эту груду железа. Потом она отвернулась, и Вассерман, слегка приподняв забрало, проводил ее глазами.
Он хотел сразу же выбраться из доспехов, которые хотя и были достаточно просторными, но никак не подходили ему по росту. Только из этого ничего не вышло. В зал входили все новые и новые посетители. Похоже, на улице становилось все холоднее.
Был вторник, и музей в этот день работал до десяти часов вечера. Около пяти в зал вошла группа школьников, целый класс. Учитель со знанием дела рассказал о пользе доспехов в средневековые времена, о мощи тогдашнего оружия. Потом весь класс со скучающим видом покинул зал. Остались только двое: один был рыжий, а другой — маленький и толстый. И надо же было тому случиться: они остановились именно перед Вассерманом, а рыжий даже потрогал ножные латы. Вдруг он подозвал своего товарища и прошептал:
— Смотри! Там кто-то сидит.
Конечно же, это было потрясающее открытие. Толстячок поднял забрало и уставился на Вассермана; растерянный Вассерман уставился на малыша.
— Ясное дело! — закричал малыш. — Они его забыли! Это рыцарь!
Сперва они хотели обо всем рассказать учителю, но рыжий решил, что раз они его открыли, то пусть он будет их тайной.
— Он выглядит совсем свежим, — сказал толстяк и до тех пор щекотал Вассермана под носом, пока тот не чихнул.
— Я расскажу обо всем отцу, — заявил рыжий. — Надо будет привести его сюда сегодня же вечером, а то не поверит.
Толстячок тоже считал, что иначе отец не поверит. Потом они убежали со своей тайной, оставив Вассермана наедине с чувством большой ответственности. Вправе ли он сбежать отсюда? Вправе ли злоупотребить доверием мальчишек? Конечно, нет, решил Вассерман и остался в доспехах до тех пор, пока около восьми оба малыша не притопали вместе с отцами.
— Он может чихать! — радостно объявил толстячок и пощекотал Вассермана под носом.
— Смотри-ка, в самом деле! — в один голос воскликнули оба родителя. — Это доказывает, что и в те далекие времена люди многое умели.
К счастью, обоим отцам вскоре наскучило средневековье, и Вассерман стал было уже надеяться, что ему наконец удастся выбраться на свободу. Но не тут-то было. Пробило десять часов, один за другим погасли огни, наступила тишина. Только теперь он мог освободиться от доспехов.
Ночь пришлось провести в музее. Это его не очень пугало. Но скоро ему захотелось есть, и он занялся поисками чего-нибудь съедобного. Однако в Музее естественной истории съестных припасов не больше, чем в Музее искусств, поэтому, когда бледные лучи восходящего солнца осветили свайное поселение доисторического человека, Вассерман принялся грызть сваю. Свая оказалась невкусной, и он скоро оставил это занятие.