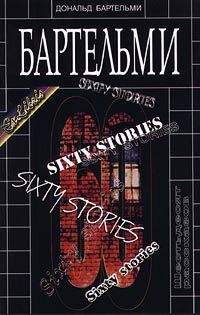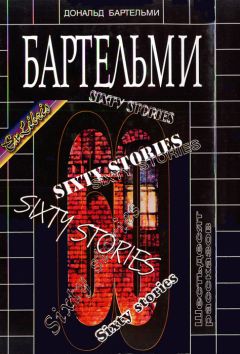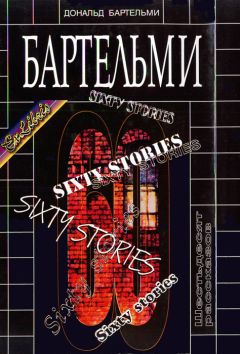Дональд Бартельми
Critique de la vie quotidienne
Пока я читал «Бюллетень сенсорных нарушений», Ванда, моя бывшая жена, не отрывалась от «Эль». У таких, как она, «Эль» только недовольство жизнью распаляет, еще бы, французский-то у нее был основным предметом в колледже, а теперь вот возись с ребенком да в окно улицу разглядывай, и больше ничего. А уж верит она журнальчику этому дамскому ну просто во всем. Вычитала как-то раз: «Femmes enceintes, ne mangez pas de bifteck cru!» — и для нее это все равно что приказ. Пока ребенка носила, насчет bifteck cru ни боже мой. Еще «Эль» советует напускать на себя un petit air naif, как будто вы все еще школьница, ну Ванда и старается. А то все ко мне приставала с этими снимками в четыре краски, на них какая-то мельница в Бретани, и правда красиво ее отреставрировали, внутри мебель сплошь от Арне Якобсена, ярко-красная, и всякие пластиковые штуки из Милана, они оранжевые. «Une Maison Qui Capte la Nature» написано. В «Эль» тогда жутко много писали про Анну Карину, тысячи четыре статеек ей посвятили, так Ванда кинозвезду эту даже чем-то стала напоминать.
Бесцветные у нас с нею были вечера. Вечером весь мир кажется бесцветным, если ты женат. Делать-то тебе нечего, вот и плетешься домой, а там выпьешь — девять раз, больше ни-ни, — ну и на боковую.
Плюхаешься в свое любимое кресло, и чтобы все девять стаканчиков стояли шеренгой на столике рядом, тут они, только протяни руку, другой рукой поглаживаешь ребенка по кругленькому животику — на завтрак поменьше бы давать надо — да покачиваешься, если, как я в ту пору, поставил у себя кресло-качалку, и вдруг, очень может быть, нахлынет на тебя этаким облачком неуловимым презрение — исправить: прозрение, — да-да, прозрение, что и тебе кое-что досталось из призов, которые жизнь хранит на особом складе, куда пускают одних только всем довольных, а уж тогда, можешь не сомневаться, в отключившихся твоих мозгах застучит, затрепыхается, чтобы прочнее угнездиться: так ведь плоды трудов-то твоих, они же вот, перед тобою, и чего ты все печалился, мол, где они, плоды? После чего, расчувствовавшись, ободрившись, словно тебе открылась истина, тянешься рукой (не той, которая при стаканчиках) потрепать мальчишку по волосам, а он тебе, с одного взгляда сообразив, в каком ты благодушии: «Купи лошадку, а?» — кстати, нормальное и в общем-то законное желание, хотя, с другой стороны, оно ну уж никак не вяжется с умиротворенностью, такими стараниями тобою достигнутой к шести вечера, и ясно, что ни о чем подобном не может быть речи, и ты ему рявкаешь: «Нет!» — резко, категорически, еще хорошо, не укусил, — короче, никаких лошадок, табу наложено раз и навсегда, бесповоротно. Но, замечая, до чего у него стоптаны башмаки — добитые мокасины оборванца из мультика, как же он в них ходит? представляешь самого себя черт знает сколько лет тому назад, еще до Большой войны, и как тебе тоже хотелось лошадку, а вспомнив, пытаешься унять нервы, опрокидываешь еще стакан (нынче, кажется, третий), напускаешь на себя сосредоточенность (ты и весь день ходил такой серьезный, сосредоточенный, все хотел сбить с толку врагов и, как щитом, защититься от безразличия друзей), а потом мягким голосом, ласково, этак с лукавинкой даже, пробуешь втолковать ребенку, что животное, относящееся к роду лошадей, уж так оно устроено, предпочитает жить в степях да полях, где ему вольная воля бродить, да пастись, да спариваться с другими красивыми лошадьми, это же тебе не захламленная квартира в разваливающемся кирпичном доме, ты сам подумай, как ей тут будет скверно, в твоей квартире, или ты хочешь, чтобы она мучилась у нас, лошадка несчастная, и тосковала, и валялась на нашей двуспальной кровати, а она и наблевать запросто может или разозлится и копытами по стене, по другой, дом так ходуном и ходит. А ребенок, догадавшись, к чему клонится дело, нетерпеливо перебивает тебя, машет ручонкой своей крохотной: «Я не про то, я совсем не про то», и выясняется, что и правда ты напрасно старался, мальчишка другого хочет, то есть чтобы у него была лошадка, но держать ее будем в конюшне, в парке, вот как Отто. «А что, у Отто своя лошадка?» — с изумлением спрашиваешь ты, — этот Отто учится с мальчишкой в одном классе, одногодки они, и на вид ну ничем он не лучше моего малыша, вот разве с деньгами у него посвободнее, а мальчишка кивает, да, родители купили Отто лошадку, и сам в слезы, да норовит, чтобы ты увидел, как он ревет, — ну и родители, ни черта в голову не берут, скорее бы на рынке спад начался, да чтобы потом им уж и не подняться, — а ты сталкиваешь рыдающего своего сына с колен, не обращая внимания на его театральные всхлипы, ставишь его на пол, направляешься к жене, которая всю эту сцену пролежала, отвернувшись лицом к стене, и выражение у нее было, я точно знаю, такое же, как у святой Катерины Сиенской, когда та обличала папу Григория за неподобающее роскошество его покоев в Авиньоне, вы бы сами увидели, что я не преувеличиваю, только увидеть ничего нельзя, она уткнулась лицом в стену и даже не обернется, короче, направляешься к жене, а, между прочим, время коктейлей уже истекает и осталось всего два из девяти положенных (ты дал торжественный зарок, что до ужина девять и ни стаканом больше, не то здоровья совсем не останется), да, так, стало быть, ты к ней подходишь и самым невозмутимым тоном осведомляешься, что там у нас на ужин и с какой радости она, блядь, спустила на меня это вопящее чудовище. Ну и она, с королевской выдержкой сохраняя свой air naif, а заодно не упустив случая продемонстрировать, какие у нее красивые ноги — и тебе бы перепало, если бы хорошо себя вел, — размеренным шагом удаляется из гостиной на кухню, где вываливает на пол весь наш ужин, так что, заглянув за порцией льда из холодильника, начинаешь выписывать пируэты, скользя по свиным отбивным с sauce diable, вылившимся из датской нержавеющей кастрюльки, а также по патиссонам в маринаде «Луис Мартини» с добавкой горных трав. И поскольку таким вот оказался приготовленный для тебя приз, свой счастливый час ты решаешь увенчать тем, что нарушаешь собственное железное правило, переступив через сей закон превыше всех законов и выпив одиннадцать вместо тех скромных девяти, коими томленье вечеров ты приглушить пытался, когда в камине теплился огонь, а ветер за окном метался и пр. Только вот какое дело: открыв холодильник, убеждаешься, что эта сука, которой дела ни до чего нет, забыла залить воду и льда нет ни кубика, как хочешь, так и пей десятую и одиннадцатую тоже. Уверившись, что так оно все и есть, ты испытываешь соблазн послать все это к свиньям, и свой дом замечательный, и остальное, а вечер провести в борделе, там, по крайней мере, к тебе проявят внимание, и никто не станет выклянчивать лошадку, и не придется прыгать через отбивные, плавающие на полу в лужах sauce diable. Да, опять незадача, суешь руку в карман, и оказывается, у тебя всего три доллара, даже за вход заплатить не хватит, а по карточке там счет не выписывают, так что идея отправиться в бордель летит к чертям. Вот так и приходится смириться, а жаль, ведь не заиграет шаловливый румянец на скукоженной щеке, и отмеряешь для коктейля свой сверхлимитный виски безо льда, который ты кое-как заменил, плеснув в бокал холодной воды, и возвращаешься в комнату, именующуюся жилой, и думаешь: ну и ладно, поживу тут еще какое-то время, не стану бунтовать против обстоятельств, ведь много есть таких, кому еще намного хуже моего достается, те, кому неудачно сделали трепанацию черепа, и девушки, которых не позвали на сексуальную революцию, и священники, которые все еще в облачении. И вообще, сейчас всего семь тридцать.
Как-то в отеле, где мы с Вандой проводили выходные, нам досталась ужас до чего узкая кровать, а тут еще в нее залез мальчишка.
Мы ему говорим: «Уж если ты хочешь к нам в постель, хоть и без тебя тесно, ложись в ногах». А он: «Не хочу, — говорит, — спать между вашими ногами». — «Что тут такого? — спрашиваем. — Ноги не кусаются же». — «Вы ими дрыгаете, — отвечает мальчишка, — как ночь, так вы сразу дрыгать ногами». — «Ну вот что, — говорим мы, — или ты будешь спать в ногах, или на полу. Выбирай». — «А почему мне нельзя на подушке, как все?» — «Потому что ты маленький», — объясняем мы, и ребенок наш захныкал и сдался, понял, что спор исчерпан, вынесен вердикт, так что никакие аргументы больше не будут приниматься во внимание. Только от своего он все-таки не отступил, взял да написал нам на постель, как раз в ногах. «Черт бы тебя подрал! — откомментировал я, не подыскав ничего более подходящего по этому случаю. — Ты что же с постелью сделал, паршивец?» — «Не мог больше терпеть, — оправдывается он. — Само прыснуло». — «Ой, а я клеенку дома забыла», — вздыхает Ванда. Ну я и говорю тогда: «Провалились бы вы все! Будет когда-нибудь конец этой семейной жизни»?
И обращаюсь к мальчишке, а он мне отвечает, и дело-то ну полная чепуха, а напряг у нас такой, что слон не выдержит.
«Иди лицо вымой, — говорю. — Чумазый, смотреть противно». — «Ничего не чумазый», — мальчишка говорит. «Нет, — говорю, — чумазый. И для твоего сведения, грязь к человеку пристает в девяти местах, хочешь назову в каких». — «Это из-за теста, — объясняет он. — Мы из теста маски лепили, как с мертвых снимают». — «Из-за теста! — всплеснул я руками, содрогнувшись при одной мысли, сколько они извели муки и воды, да еще, конечно, и бумаги на такое прелестное развлечение. — Посмертные маски! — все не мог я успокоиться. — Да что ты знаешь про смерть?» И слышу от мальчишки: «Смерть означает конец мира для личности, которую смерть постигла. Глаза ничего больше не видят, — говорит, — и значит, мир кончился». Ведь верно. Тут не поспоришь. И я предпочел вернуться к главному делу. «Отец велит тебе вымыть лицо», — сказал я, говоря о себе не впрямую, а отвлеченно, потому что это придавало мне больше уверенности. «Знаю, — отвечает он, — ты всегда так говоришь». — «А где они, твои маски?» — «Сохнут, говорит мальчишка, — на теплораторе» (это он так радиатор называет). Ну, пошел я к этому радиатору, посмотрел. Так и есть, четыре крохотные маски. Одна — моего сына, остальные — его друзей, и все улыбающиеся. «Тебя кто научил их делать?» — спрашиваю, а он мне: «В школе научили». Я про себя обругал эту школу на чем свет. Поинтересовался: «И что ты с ними собираешься делать?» — надо же показать, что его затеи мне небезразличны. «Может, по стенам развесим?» — предложил мальчишка. «Ладно, развесим, а почему нет?» Он говорит — а вид хитрющий такой: «В напоминанье, что все помрем». Тут я его спрашиваю, зачем все маски улыбаются: «Это нарочно так сделано?» Хмыкнул только да губы скривил, этакая ухмылочка, прямо мороз по коже. «Я же тебя спрашиваю, зачем ухмыляются?» — от этой их ухмылки у меня страх в сердце, а там и без того страха хватает. «Сам поймешь», — говорит ребенок и грязным своим пальцем тычет прямо в маски, проверяет, высохли или нет. «Сам пойму? — воскликнул я. — Это что еще такое — сам пойму?» — «Ага, и пожалеешь», — отвечает и смотрит на себя в зеркало, тоже с жалостью. Только я его опередил, я уже жалеть начал. «Что значит пожалеешь? — заорал я. — Да я всю жизнь только и жалею!» «И есть с чего», — говорит он, а выражение у него уже не жалости, мудрое у него на лице выражение. Боюсь признаться, дальше имело место физическое насилие над мальчишкой. Не буду про это, мне стыдно.